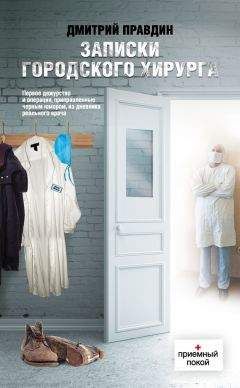Людмила Улицкая - Бедные родственники (сборник)
– А ты сюда боле не ходи, ноги тебе переломаем! – и стала толкать ее в спину корявой сумкой.
Хромой старик поднялся с земли, зашел с другого бока и, черным словом обругав ее, замахнулся:
– Давай, давай отсюдова!
Зинаида зажмурилась и остановилась. Ноги у нее как будто отнялись, и она почувствовала, как горячо стало ляжкам и икрам.
– Иди, иди, нечего тебе здесь делать, своих хватает! – гнала ее совсем уж крохотная старушонка в плешивой меховой шапке.
Зинаида рада была бы убежать, да ноги не держали – подогнулись, и она осела на самой дороге, как огромная растрепанная курица, укрывая голову белыми и пухлыми руками.
И вдруг над головой ее раздался свирепый хриплый голос:
– У, шакалья стая, рванина несытая! Мразь ты, Котова! Двадцать лет стоишь, все мало набрала! На тот свет заберешь! А ты куда, старый хрен, лезешь, прислуга фашистская! Вставай, что ли!
Зинаида почувствовала, как железная рука легла ей на плечо и потянула вверх.
– Эй, женщине плохо, помогите поднять! – зыкнул голос, и чьи-то руки потянули Зинаиду вверх, потащили чуть не волоком к скамье и усадили. Тут только она открыла глаза. Перед ней стоял маленький широкоплечий – сначала показалось – мальчишка, нет, не мальчишка, мужиковатого вида женщина в брюках с косыми бровями и разбойным лицом. Желто-рыжая челка торчала из-под белого ханжеского платка. Растопыренные ноздри подрагивали. – Ничего, ничего, я им хвоста накручу, банда попрошайская! Ты ходи и стой где хочешь, места некупленые! Ишь, мафию развели, как в Сицилии! Убогому человеку уже и притулиться негде! Хуже милиции! – орала эта странная женщина. – А ты не слушай их! Если тебе кто хоть слово скажет, ты им сразу говори: а мне Катя Рыжая велела!
Катя Рыжая стояла, опираясь на два здоровенных костыля, потом, низко склонившись к Зинаиде и угасив гнев, спросила:
– А ты сама-то откуда?
Зинаида хотела ответить, но язык не ворочался.
– Где живешь-то? – переспросила Катя. – Глухая?
Тут Зинаида покачала головой.
– Здесь живу, через проспект.
– Какая группа? – деловито осведомилась Катя.
– Вторая, – радостно ответила Зинаида.
– Ага, – удовлетворенно кивнула Катя.
– Мама у меня померла. Месяц как похоронила, – поддержала разговор Зинаида.
– А моя все никак не помрет, – с сожалением заметила Катя. – Вот трешничек, возьми. Ты пьющая?
– Не-ет, – удивилась Зинаида.
– Бери! Раз непьющая, тебе и до Покрова хватит. Завтра не приходи. Приходи четырнадцатого или тринадцатого, ко Всенощной можешь прийти. Я здесь буду. Если чего, ты так им и скажи – Катя Рыжая велела! Зовут-то как?
– Зинаида, – застенчиво ответила Зинаида.
– Они, Зинаида, темные, сил нет. Есть злые как собаки. Да что собаки, хуже собак! Чуть цыкнешь, хвосты прижимают. Все больше попрошайки, настоящих нищих здесь почти что и нет. А ты ходи, ходи, не бойся!
Катя помогла Зинаиде выбрать свое тело из глубокой садовой скамьи, в которую, как в западню, затекла Зинаида. И пошла она восвояси, ощущая мокрель в тапках и холод по всему низу.
Остывшая и как бы даже похудевшая своим рыхлым телом Зинаида втиснулась в квартиру и, не проходя вглубь, села в прихожей на табурет, стянула с головы платок, свила его жгутом, куколкой, стала жалеть: «Бедная, бедная», – и заплакала…
Зинаида была слаба, она, и с мамой живя, часто обижалась на маму за то, что она ей есть не давала. Аппетит у Зины был непрерывный, и он был ее болезнь, а мама ей препятствовала. Тогда Зинаида, скручивая из платка куколку, садилась на табурет возле двери и говорила маме:
– Уйду от тебя, уйду…
– Куда ты уйдешь, квашня? Куда пойдешь, прорва? – равнодушно ворчала мама.
И Зине казалось немного, как будто эта куколка из платка и есть она, Зина, только маленькая, и она шептала:
– А мы уедем. Весна придет, мы в Анапу уедем.
Возили Зину в санаторий в Анапу, когда ей было лет десять и болезнь только начиналась.
…Отдохнув от страха и обиды, Зинаида сняла свои подмокшие тренировочные и пошла в ванну стирать. Она купала в мыльной воде свои огромные полупрозрачные руки, вздыхала – ничего она не умела. Раньше мама все делала, а теперь вот приходилось самой.
Мысли были большие, одутловатые, неповоротливые – она думала про свое будущее нищенство, про всякую еду, которую будет сейчас есть, и про Катю Рыжую, которая ее защитила от злых людей…
Зинаида пришла к Покрову. Больше ее не гнали. Она собрала много денег, почти четыре рубля. Все время, прислонясь спиной к балюстрадке, она искала глазами Катю Рыжую, но так и не нашла.
Когда деньги кончились, пришла опять и опять набрала денег, но Катю не встретила. Старухи ее не гоняли, а одна даже приветила, сама подвинулась и другой сказала:
– Дай Слонихе встать, подай влево.
Так вернулось к Зинаиде ее давнее прозвище – Слониха. Она и впрямь была Слониха, еще в школе ее так дразнили, но по малолетству это было обидно, а теперь как имя родное…
Только на третий раз Зинаида встретила Катю. Та шла по асфальтированной дорожке, косо ведущей к храму, валкой походкой, с припаданием на одну ногу, в то время как вторая, в ортопедическом ботинке, довольно высоко задиралась вбок. Катя увидела Зинаиду, кивнула и вошла в храм.
«Наверное, в притворе стоит», – подумала Зинаида. Ей тоже хотелось под крышу, но она боялась, что снова ее прогонит та старуха с родинкой. Так, в раздумьях, простояла она почти час. Сначала в ногах бегали мурашки, а потом они как бы онемели. Подавали ей мало, меньше всех. Это она еще раньше заметила и про себя решила, что и правильно, худого всегда жальче, чем толстого.
Поколебавшись еще немного, Зинаида решила поискать Катю в храме. Увидела она ее в левом приделе, в очереди возле исповедующего священника. Вид у Кати был строгий, челка ее не торчала из-под платка, повязанного низко, с двумя глубокими складками на висках. Она шагнула к седобородому желтому священнику, он что-то долго ей говорил, она качала головой, потом и сама стала что-то говорить, к большому удивлению Зинаиды. Старик все качал головой, а потом положил ей на голову тускло-золотую епитрахиль. Она поцеловала его желтую руку и поковыляла к царским вратам.
Зинаида подстерегла ее, потянула за рукав, но Катя посмотрела на нее пустым янтарным глазом и сказала: «После, после…» Тут храм весь загрохотал огромным пением, запели «Верую…», и Катя отвернулась от нее и неожиданно тонко стала выводить: «…во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…» – с такими замираниями, падениями и подъемами, что казалось, Катя одна ведет всю эту толпу по горной перепадистой дороге.
Потом все пение кончилось, снова говорил священник, немного пел хор, потом опять всем храмом пропели «Отче наш», это Зинаида знала, потому что мама ее этому научила. Но было очень душно, тесно, люди все были не отдельные, а как одно громадное, слившееся из отдельных дрожащих капель существо, и Зинаида чувствовала, что все делается густым туманом, но не сырым, а душистым, медовым. Свечной огонь как будто расплавился в воздухе, все стало сладким, снотворным, вся жизнь снаружи, на улице, пропала, как радужные разводы в луже, а здешнее, золотое, все сгущалось и стало наконец точно таким же по плотности, как ее тело, и она оторвалась вверх и поплыла между золотых столбов, арок и зыбких нимбов, а густой воздух, которого она касалась рукой, был к ней благосклонен и ласков…
Она и сама не заметила, что давно уже сидит на широкой и удобной скамье, рядом с другими, а кто ее подвел и посадил, она не помнила. Здесь, на лавочке, ее и нашла Катя.
– Ну что, не гоняют больше? – спросила склонившаяся Катя.
– Нет, не гоняют, – просияла в ответ Зинаида.
– Ну и ладно. – Катя было двинулась прочь, потом задержалась и спросила: – Ты собрала чего? Так пошли, что ли?
И они вместе вышли, колышущаяся на ходу Зинаида и маленькая, как кривое высохшее дерево, Катя.
– Пошли, что ли, к тебе, – предложила Катя, и Зинаида обрадовалась: гости к ней не ходили, кроме тети Паши, маминой сестры.
По дороге к дому Зинаида купила хлеба и мороженого – много. Теперь, после смерти мамы, она ела вволю и пристрастилась к мороженому. Мать ей мороженого не давала, говорила: больно сладко для тебя! А Зинаида себе сахару не жалела.
В доме Катя вострым глазом все оглядела, несколько даже принюхиваясь, заметила немытый пол и сказала:
– Мне тоже согнуться по-нормальному невозможно, я полы ползком мою. Лягу на живот и ползу себе назад. Может, помыть тебе?
Зинаида застеснялась такому предложению, да и на что? И так хорошо. Заглянула Катя и во вторую комнату, запроходную. Туда Зина после маминой смерти и не заходила, нечего ей там было делать. Пока Катя осматривалась, Зина приготовила поесть: накрошила в белую миску вареной картошки и плавленого сыру, налила туда кефиру. Она сама себе такую еду придумала, ей нравилось, и первое, и второе сразу, и варить не надо. Так крошила она все подряд, и хорошо было. Едой Зинаида очень утешалась. Только во время жевания ей и было хорошо. Как только она еду проглатывала, как будто большой зверь в животе начинал шевелиться и требовать: еще, еще!