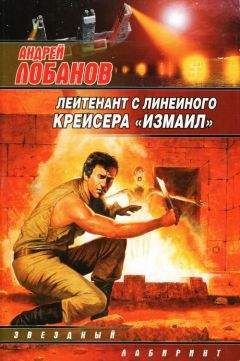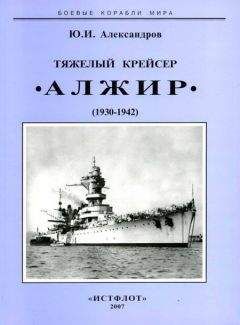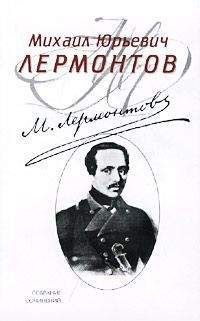Мария Метлицкая - Вечный запах флоксов (сборник)
Вышли на площадь. Она была огромна, эта площадь. Там, у стены, толпился народ. Слева мужчины, справа женщины. Кто-то сидел на пластиковых стульях, кто-то стоял.
Рита направилась к женской половине. Там, среди пестрых одежд, ярких и темных головных платочков и шляпок он снова быстро потерял ее и, оглянувшись, уселся прямо на землю. Точнее – на каменную мостовую рядом с шумной компанией разновозрастной ребятни. Дети – кудрявые, глазастые, со смешными завитушками вокруг нежных лиц – пили воду, отбирали друг у друга конфеты, спорили и переругивались. К ним подошла женщина, скорее всего мать – высокая, полная, с покрытой платком головой. Она цыкнула на них и отошла к подругам. На минуту дети притихли, а потом снова расшумелись и разошлись. Мать обернулась. Жаров столкнулся с ней взглядом, и она, широко улыбаясь, беспомощно развела руками.
Он увидел, что женщина беременна, и подумал: «Господи! Такая вот куча, а снова туда же! Да наши бы уже орали как резаные! А эта… цыкнула и махнула рукой. И снова треплется и улыбается… Чудеса».
Мимо проходили мужчины в странных одеждах – кафтаны, панталоны, огромные, словно надувные круги, шляпы, отороченные мехом. «Неужели это повседневная одежда? – с ужасом подумал он. – Это сейчас октябрь, а летом… Носить вот такую махину из меха!»
Он прислонился головой в каменной тумбе и продолжал рассматривать толпу. Мужчины молились, раскачивая туловищем. Кто-то был покрыт, как покрывалом, белым шарфом с синими полосами.
Малыш из соседней компании прислонился к ребенку постарше и сладко, приоткрыв рот, заснул. Брат, которому он явно мешал, чуть подпихивал его плечом, а тот снова заваливался и продолжал спать. Мать пригрозила старшему пальцем, и он, скорчив гримасу недовольства, замер как неживой. Сестра – девочка лет восьми – подошла к спящему ребенку и аккуратно засунула ему пустышку.
Наконец Жаров увидел Риту. Она шла медленно и плавно, и на ее губах чуть мерцала счастливая улыбка.
Он поднялся с земли, отряхнул джинсы и спросил:
– Ну, на сегодня – всё?
Она пожала плечами.
– Да, наверное. Пойдем поедим, а? – добавила она жалобно.
И снова ступеньки и уже надоевшие запахи. Снова зазывные окрики торговцев. Раздавленные бананы, кожура граната. Ее рука, доверчиво вложенная в его ладонь.
Приземлились – прохладно, старый, очень старый дом, в распахнутую дверь видны столики кафе. Наструганное мясо, мелко порезанные овощи, лук кольцами, соленые огурцы, теплая лепешка. Вкусно! Запивали только что, прямо на глазах, выжатым гранатовым соком.
Ноги гудели, глаза слипались, хотелось рухнуть в неразобранную постель и уснуть.
Устали. Он заметил – жена ест с аппетитом. Жадно, отламывая руками лепешку, макая ее в густой кисловатый соус.
Ну и слава богу! Давно не видел, как она увлеченно ест. «Значит, уже не зря», – грустно подумал он.
Конечно, ко всей этой затее он относился скептически: ну не получается. Что тут поделать! Бывает и так. Оглянись вокруг – куча людей живет и не парится. А тут… Вбила в голову – последний шанс, я почти уверена…
И все же нельзя лишать человека надежды. Никто не имеет на это права. Да понятно, что все это… глупость. В конце концов, лучше бы приехать сюда с другой целью – например, хорошая клиника. Но… Все уверяют, что они здоровы. Абсолютно здоровы. Значит, клиника, даже лучшая, тут ни при чем. А что же тогда? Судьба? Расположение звезд? Несовпадение светил? Сколько он, видя, как страдает жена, думал над этим…
А тут – помолодела, порозовела, лопает, как портовый грузчик. Только вот что будет потом… когда снова – и ничего?
Он перегнулся через стол и отер кетчуп с ее щеки. Она улыбнулась и перехватила его ладонь.
С минуту они смотрели друг другу в глаза. Потом, сглотнув в волнении комок, он бодро сказал:
– В магазин, а, мадам? Ну, что-нибудь там, из плотского? Из совсем низменного, например?
Она улыбнулась, кивнула и легко поднялась со скамейки.
А в магазине она быстро скисла, сказала, что устала, и попросилась «домой». Он вздохнул и кивнул – домой так домой.
В такси молчали. Она опять отвернулась к окну, словно отгородилась, отстранилась от него, и он снова почувствовал незримую, непробиваемую стену между ними.
Он взял ее за руку, но она высвободила свою ладонь.
Хозяева были на работе. Обед стоял в холодильнике – об этом сообщала Наташкина записка. Рита, не раздеваясь, легла на кровать.
Он открыл холодильник, вынул из пластикового контейнера холодную котлету, тут же сжевал и запил апельсиновым соком.
Потом сел в кресло и подумал: «А ведь достало все! Ой как достало! Все эти закидоны, припадки, тихие истерики. Человеку нравится жить в своих страданиях! Просто кайф упиваться ими. Нет чтобы жить и радоваться – денег хватает, работа – ну, синекура, а не работа! Ходи в своей кружок «умелые ноги» три раза в неделю и пей кофеек. Вот нет же, вбила себе в башку!»
Он совсем расстроился, досадливо крякнул, достал из холодильника початую бутылку водки, налил полстакана и опрокинул в рот.
Потом улегся на диване в салоне, включил телевизор и не заметил, как уснул.
Разбудил его Борька – что-то грохнул на кухне. Жаров поприветствовал приятеля и заглянул в спальню – Рита читала какой-то журнал.
– Хочешь чего-нибудь? – спросил он.
Она кивнула – кофе.
Он обрадовался, побежал на кухню и стал варить кофе. Борька сидел на стуле и молча отслеживал его движения.
Вышли на балкон – перекур. Сначала смолили молча, а потом Жаров спросил:
– Ну а как тебе тут? Вообще?
Борька пожал плечами.
– Вообще… Вообще – хреново. Только… – тут он запнулся, – только не в стране дело. Страна тяжелая, правда. Но не тяжелее России. Не в стране дело – во мне. Мне везде хреново, понимаешь? Везде грустно, везде тоскливо. Ведь все от натуры… Вот Наташка, – тут он оживился, – русская баба, а в страну эту – необычную, очень необычную, – влюблена! И все ей по кайфу: и климат дурацкий, невыносимый. И работа нелегкая. И квартирка эта… – Он замолчал, задумавшись. – Говорит, ненавидит мороз. Врет! Мороз она тоже любила. Она все любит, понимаешь? Или – все готова любить. Настрой у нее такой. Все любит, и ничего ее не раздражает. Даже я… А я бы себя на ее месте убил. Нытик, зануда, брюзга… Да если бы не она, – тут Борька крепко затянулся и сглотнул слюну, – если бы не Наташка… Меня бы вообще давно не было!
Жаров молчал, свесив локти на перила. Потом кивнул.
– Тебе повезло! Она всегда была… Мать Тереза. И все ее очень любили!
– Да никто ее не любил! – вдруг завелся Борька. – Только пользовались – ее добротой и ее безотказностью! И даже я… Даже я ее не любил! Ну, в смысле – не сгорал от страсти. Она же была пацанкой! Всеобщий дружбан! Позвони – прибежит, не задумается! А поженились… Она одна, и я один. Два неприкаянных. Вот и прибило к друг другу волной. От одиночества. И оба мы все понимали. А я был влюблен в Светку Беляеву. Ох, как страдал! Просто загибался от страсти. Ходил тогда с температурой под сорок. Мама к врачу отвела, а те ни хрена не понимают. Анализы нормальные, симптомов никаких. А я… не могу встать с кровати!
Они снова молчали, не поднимая глаз друг на друга.
– Вот что это? – горячо заговорил Борька. – Любовь? Я честно не понимаю! Никогда у нас не было ничего такого… Ну, чтобы крыша поехала. Наверное, я ее тогда пожалел и еще – себя. И у нее так же, я думаю. И что получилось? Потом эмиграция. Я ведь не очень хотел, а она вот хотела. Почему? Ей-то в спину ничего не шипели – вали отсюда, жидовская морда. Шипели мне – с моей-то внешностью. И она решила – все, хватит! Едем. Потому что не хочет, чтобы и сыну вот так же. Она ведь лезла драться в таких ситуациях. Представляешь, эта сопля, метр с кепкой – и на здорового мужика! Я ее отодрать от него не смог! И здесь, по приезде… Ничем не гнушалась, ничего не боялась, хваталась за все. И сортиры мыла, и бабок лежачих таскала. И все – с улыбкой! Ни разу не захныкала и не пожаловалась. В отличие от меня… – Борька посмотрел Жарову в глаза. – А получилось вот что – да я жить без нее не могу! Дышать не могу, понимаешь? Вот если прихожу с работы, а ее еще нет… Задыхаюсь. Как приступ астмы. И не потому, что она сильная. Не потому, что плечо и жилетка. Не потому, что обнимет – и все, как рукой… А просто… И вот теперь объясни – что это? Любовь? Жалость? Привычка? Ты хоть что-нибудь понял про эту семейную жизнь? Ну, или про жизнь вообще? Лично я – нет! И могу тебе в этом признаться!
Жаров кивнул.
– И любовь, и привычка, и жалость. Все вместе, Борь! Такой вот микс из «много чего»! И злишься порой, и недоумеваешь – а что я делаю тут? С этой женщиной рядом? Она ведь мне так надоела, прости господи! И привычки ее раздражают – вот, пьет кофе и двумя пальцами крошит печенье. И крошки, крошки – по столу и на блюдце… И помада ее не нравится – ну, не идет ей коричневый цвет! А ведь упрямая – что ты понимаешь в женском мейк-апе! И брюки узкие не идут! Уже – не идут! Потому, что не тридцать, и потому, что задница… И красное старит, и журналы читает дурацкие. И с мамашей своей треплется, закрывшись в сортире. Вот о чем? И почему при закрытых дверях? А, обо мне! Наверняка – обо мне! И храпеть стала во сне, представляешь? Ну, ладно – не храпеть, похрапывать. Но все равно – смешно! И морщит лицо, смешно так морщит, разглядывая морщины. Расстраивается! Гримаса такая на лице, что ухохочешься. И седину закрашивает, скрывает. А ты все видишь, и тебе смешно! Смешны все эти ухищрения, все эти уловки. И она… Смешная и… жалкая. Видишь, как стареет, видишь, как мучается. И хочется крикнуть – дурочка! Да разве в этом дело! Мы ведь с тобой такое прошли! Разве все это забудешь?