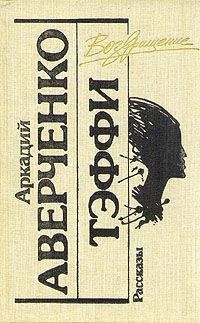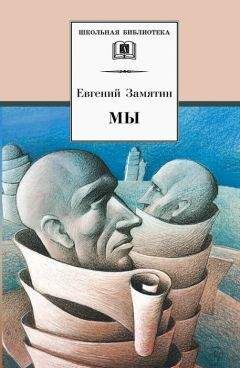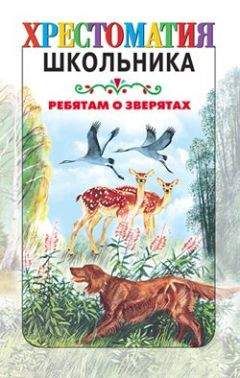Леонид Аринштейн - Место издания: Чужбина (сборник)
…И до сих пор Матрена эта часто грезится мне, как пришедшая из древних времен Женщина – Мать – Сестра, – глава и защита семьи, рода, племени, бывшая, а может быть, и будущая Хозяйка Земли, которая, верю и надеюсь, поможет и современному человечеству стать более человечным…
Спасибо моему новому земляку из Аргентины. Помог он мне, при помощи экрана моей памяти, припасть к истокам родной земли с ее богатырями и богатырицами. И еще раз почуять теплоту сердца редкого человека и идеалиста П. Е. Цвилинского, горячо проводившего в жизнь Судебные Реформы Царя-Освободителя.
«Правда и милость да царствуют в судах».
Георгий Гребенщиков. Альманах «Литературный современник» (Мюнхен). Декабрь. 1954. Флорида
Дворник Лашков
[9]
СредаВ лабиринте бельевых веревок, словно мышь в сетке из-под яиц, металась по двору Сима Цыганкова. Облаву вели два ее брата, оба низколобые с аспидными челками над кустистой бровью, вели с пьяной непоследовательностью, и, хотя уже добрая половина белья лежала полувтоптанная в дождевую грязь, Сима все еще ухитрялась ускользать от них, то и дело пытаясь прорваться к воротам. Но всякий раз кто-то из братьев перехватывал ее на полпути, и все повторялось сначала. Братья обкладывали Симу с молчаливым остервенением, как зверя, в полной тишине. Слышен был только их прерывистый хрип да протяжный треск лопающихся веревок.
Лашков по опыту знал, что с Цыганковыми лучше одному не связываться. Они переехали недавно в девятую, и первый же их день во дворе ознаменовался громким, чисто вологодским мордобоем со скорой помощью и милицией в заключение. Семейство изуродовало своего соседа старика-филолога Валова, а заодно и непрощенного воителя за всех обиженных Ваню Левушкина. Уже на другой день сам Цыганков, взяв всю вину на себя, уехал в домзак отсиживать установленный кодексом год. Филолог, дав объявление насчет обмена, ночевал у Меклера, а Иван гордо носил по двору свой пробитый череп, наскоро забинтованный ему в неотложке, и, горячась, возмущенно жаловался каждому встречному-поперечному:
– Это разве по Богу над стариком среди бела дня измываться? За такое по головке не погладят. Совесть-то надо иметь, а? Под Богом ходим, а совести – кот наплакал…
Среди Цыганковых Сима выглядела белой вороной. Тоненькая, хрупкая, почти девочка, в застиранном ситчике – белый горошек по голубому фону – она семенила двором, потупив глаза, так, будто ступала по битому стеклу, и как бы не пробегала вовсе, а извинялась за все свое непутевое семейство. Но стоило видеть, какими глазами смотрели на нее все холостяки дома, да и женатые тоже: Сима была проституткой с лицом иконостасного херувима.
Лашков еще натягивал пиджак, чтобы бежать за уполномоченным, а кто-то уже кричал сверху:
– Ироды! Куда по подзору сапожищами-то! И зачем только принесло вас на нашу голову! Креста на вас нету! По подзору-то, по подзору как, а?
Во дворе Лашков застал уже конец облавы. Тихон все-таки загнал сестру в угол котельной и флигеля. Сима упала, свернулась в клубок, обеими руками прикрыв голову. Обляпанная грязью подошва уже занеслась над ее крапленым ситчиком, но здесь между нею и братом неожиданно вырос Лёва Храмов:
– Не смейте ее трогать! Как вам не стыдно бить женщину! – Он махал перед носом Цыганкова бледным тонкопалым кулаком. – Не подходите к ней! Да!
Конечно, это выглядело смешно. Звероподобному Тихону стоило даже не ударить, а просто толкнуть худосочного актера, и без кареты скорой помощи тут бы не обойтись. Тихон остолбенел на минуту, раздумывая, как слон над зайцем: давить или пройти мимо! А когда он все же решил давить и угрюмой глыбой подвинулся к Храмову, на плечо ему легла тяжелая штабелевская рука.
– Слюшай сюда, парень. Ты видьишь это. – Отто чуть приподнял сжатый свободной рукою кусок водопроводной трубы. – Ти хочешь получайт пенсия – бей его, не хочешь получайт пенсия – иди домой.
Тихон исподлобья окинул Штабеля с ног до головы, как бы прикидывая, во сколько обойдется ему драка с дюжим австрийцем, потом коротко переглянулся с братом, тот хмуро кивнул, и они двинулись прочь, и лишь с порога парадного Тихон пьяно погрозил:
– Я тебе, немецкая морда, еще загну салазки!
Штабель лишь усмехнулся одними глазами и, полуобняв за плечи актера и Симу, подтолкнул их к котельной:
– Иди, посидайт у менья. У вас есть многай разговори. Мы, – он указал на Лашкова, – будьем курьить здесь. Мы будьем думайт, – он снова кивнул на Лашкова, – многа думайт. И говорьит, говорьит.
Лашков терпеливо молчал, пока друг его, попыхивая глиняной трубкой, изучал густеющее небо. Василий знал Отто Штабеля: чем дольше тот думает, тем серьезней будет речь.
Дворник встретил австрийца случайно на бирже труда, куда зашел, чтобы найти, по просьбе домоуправа, дельного истопника-водопроводчика. Штабель приглянулся ему сразу: степенный, обстоятельный – прежде чем сказать, десять раз подумает, – он подкупил дворника именно этой своей обстоятельностью. Казалось бы, не от сладкой жизни идут на биржу, и все-таки, прежде чем согласиться, Отто, мешая русские слова с немецкими, дотошно, врастяжку выспрашивал его о месте (каков транспорт?), об условиях (как с выходными?), о спецодежде (надолго ли?) и даже о жильцах (что за народ?). И Лашков, вопреки всем традициям того скудного для рабочих рук времени, расхваливал свой товар, старался вовсю.
Видел дворник: поставит ему домоуправ за такого водопроводчика, и не одну. Транспорт? Под самым носом. Зарплата? Не обидим. Спецодежда? Не поскупимся. Жильцы? Ангелы, а не жильцы.
Вскоре новый истопник занял лашковскую каморку в котельной, а сам дворник вселился в светелку уплотненной модистки Низовцевой во втором этаже флигеля…
Вечер повис над крышами первой, еще неуверенной звездой. Звезда набухала, наливаясь мерцающей голубизной, и в шелест тополей за воротами вплелись два голоса оттуда – из глубины котельной:
– Мать не просыпается. И эти тоже. И все – денег. А я и так им все отдаю… Эх, и зачем только принесло нас сюда – в прорву эту… Отобрали кузню, так что в ней, в кузне-то, и свету только? И так прожили бы. Все здоровые… Там у нас на Волге хорошо, просторно… Завод, завод!.. Вот тебе и завод!..
– Какой ужас, какой ужас!.. Ужас… Ужас… Милая, милая девочка… Какой ужас! Откуда это, за что это на нас такое!.. Говорите, говорите…
– Для вас ужас, а нам – век жить… Старые люди говорят: за грехи.
– Да кто ж и когда у нас так согрешил, чтоб за это – такое?
– В роду, говорят.
– Боже мой, боже мой, да в каком же это роду и в каком же это столетии. Девочка, девочка, разве прокричишь тебе душу? Да поверь мне, нет такого рода, племени такого нет и столетия такого не было. Да если бы и все роды и века мы страшно, чудовищно грешили, нас нужно было бы наказать самое большее – смертью. А ведь это ужас!
Тихо:
– Не надо так. – И еще тише: – Не надо. Всех не пожалеешь. Вот и за меня к чему было заступаться?.. Ведь прибить могли. И – насмерть прибить. Что вам-то?
– Много.
– Это от доброты. Потому вы и слабый… И тихий… от доброты… Добрые – они все слабые.
– Совсем, совсем нет, милая. Это только так кажется… Я всегда буду вас защищать.
Тихо-тихо:
– Защитник.
– Служить вам… Будем жить вместе… Не подумайте плохо… Как брат и сестра…
– Коли вы захотите такого, это я вам рабой буду… И вовсе не надо, чтобы как сестра…
– Девочка, девочка, милая девочка…
– Волосы у вас, как лен, мягкие и ласковые…
Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда и эти вот два голоса.
Владимир Максимов. Грани. № 64. Франкфурт, 1967
Не бойтесь Вирджинии Вульф
Не бойтесь. Не бойтесь Вирджинии Вульф. Не пугайтесь того, что она слышала, как птицы разговаривают у нее под окном по-гречески. Что тут удивительного? Я и сама каждый вечер беседую на арамейском языке с Ши-Цзы, сфинксами.
Из города Фив, из Египта привезли их, двух каменных собак в колпаках. И до сих пор стоят они перед Академией художеств в Ленинграде. По преданию: пока в этих сфинксах живое сердце не затрепещется, до тех пор чтоб ничему настоящему не быть, а быть все только как для виду…
Не надо бояться Вирджинии Вульф.
А бойтесь Ши-Цзы, – каменных собак в колпаках.
Сердце их – камень на дне горной реки.
И с каждым годом этот камень становится все холоднее.
Если кто-нибудь спросит вас, куда девалось время, – ответьте, что его больше нет и не будет. Оно убито и похоронено в Ленинграде, около Академии художеств, под египетскими сфинксами Ши-Цзы.
Убийца времени – я.
И подлежу суду.
И со мной пойдут под суд: обезьяна (шпынь-лютер), ученая коза, медведь и мышь с колокольчиком.
А пока, между прочим…
Я ехала куда-то. Чемодан в парусиновом чехле спал мирно около моей правой ноги. Ему снились игривые снишки, он вздрагивал и уже три раза падал на маленького старикашку, сидящего впереди меня.