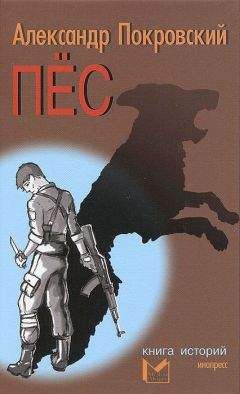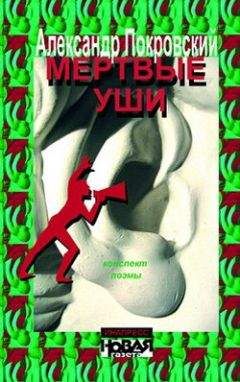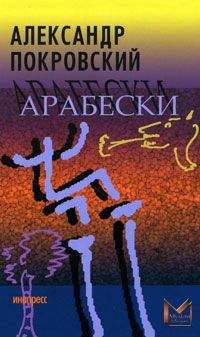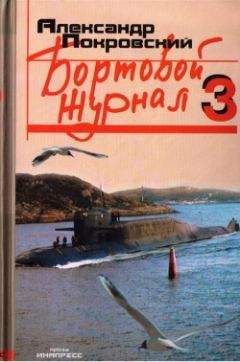Александр Покровский - Пропадино. История одного путешествия
Но вот – пух! пух! – что-то стало появляться со всей очевидностью – пух! Вокруг установилась еще одна тишина – все внимали, некоторые приподнялись на носки, чтоб видеть происходящее из задних рядов.
– Пух! На! Мя! Ми! Ни! Ню!
Было заметно, что ближайшие бледнеют, но я, кажется, обретал речь.
– Браво! Прекрасно! – раздались где-то сзади одобрительные возгласы. – Отлично! Великолепно!
– Сергей Петрович, – тут вдруг сказал я совершенно осипшим голосом, – это я.
– От всего… это от души… – заговорили в задних рядах.
– Господи, как хорошо…
– Сердца расторгнуты…
– Что?
– Расторгнуты, говорю…
– И все-таки, – сказал вдруг Его Высокопревосходительство, пресекая эти разговоры, – попрошу вас, Сергей Петрович! Соблаговолите пройти в мой кабинет! – после чего он развернулся и пошел прочь.
Я же, поддерживаемый десятками рук, последовал за ним, движимый чувством вполне понятно каким – чувством долга. И сейчас же возник голос свыше. Он говорил мне: «Иди! Иди! Воздвижь! Воздвижь!» – и на меня в тот же миг снизошло озарение, которое было гораздо озаренистей всех предыдущих сверканий (просто никакого сравнения) – я последовал за ним. В кабинет.
Тяжелая дверь – золоченая с фигурками – возникла передо мной словно бы сама собой во всей своей приглядности. У двери стояла стража в кирасах и киверах с шашками наголо – они отдали честь и чем-то щелкнули – мы оказались внутри, дверь бесшумно затворилась.
Кабинет Его Высокопревосходительства являл собой смесь личного кабинета Людовика Четырнадцатого с кабинетом Людовика Тринадцатого и всех прочих Людовиков. Кое-что было добавлено от Тюдоров и от будуара Екатерины Великой. Все, что там стояло, торчало и нависало, дополнительно утопало в роскоши.
Его Высокопревосходительство был обнаружен мной стоящим у окна – он смотрел вдаль. Я остановился.
– Не кажется ли вам, почтеннейший Сергей Петрович, что людская толпа утомляет именно своей неискренностью? – заметил неторопливо Петр Аркадьевич Всепригляд-Забубеньский (осмелюсь ли я его так называть), все еще глядя в окно. Удивительно, но он уже ничем не напоминал того человека, которого я только что видел в зале.
– Но… – вымолвил я.
– Но… – подхватил за мной он, обернулся молодо, живо и посмотрел на меня со всей той душевной мукой, на которую только был способен человек чувствующий. – Но власть – такая штука, что еще вчера ты был никто, но сегодня тебя уже слушают, как только что сошедшего с небес. Ловят каждое твое слово. А оговорки превращаются в великолепные шутки, а нелепицы – в юмор. Одиночество, – вздохнул он, – вот удел всех правителей (мне думается, эта мысль не нова, но…). Ни одного живого существа вокруг и поодаль. И всем только дай, дай, дай. Только рот свой откроют, как я уже знаю, что им надобно.
– Грушино… – протянул я.
– Да, да, я в курсе… – Петр Аркадьевич откликнулся незамедлительно, устало. – Господин Кубышка обо всем позаботится. Ему уже даны все необходимые в этом деле указания.
– А…
– А если не хватит, то и Гнобий Гонимович подключится и из-под земли сыщет. На то он и взят был в соответствующий департамент, чтоб решать все вопросы. Хоть из-под земли. И он решает, уж можете мне поверить на слово. Самые что ни на есть неразрешимые на первый взгляд вопросы.
– Осмелюсь ли я…
– Осмелитесь. Сейчас, Сергей Петрович, сейчас я закончу мысль, и вы осмелитесь.
– Я только…
– Я только хотел сказать, что людей настоящих мало. Мало порядочных людей, Сергей Петрович. Вот прибыли к нам вы – и будто кто-то двери распахнул во всем доме – такая во всем образовалась небывалая, неодолимая свежесть. Вот так стоял бы и дышал, дышал. И я сейчас же подумал: вот он, человек, не поступившийся принципами. Державник, пекущийся об Отечестве. Государев человек. А сколько в нем достоинства, и как он идет навстречу невзгодам, не ведая страха.
Признаться, от этих слов – особенно начет «невзгод» и «не ведая страха» я вдруг покрылся весьма крупными – сантиметра по полтора пупырышками и ощутил холод. То был холод лезвия, коснувшегося шеи.
Между тем Петр Аркадьевич продолжал:
– И тюрьма его не остановит, и суд не развернет.
«Суд? – подумал я с возрастающим ужасом. – Суд?!! Какой?! Какой суд? О чем это он! Ах да, да! Был же суд – что ж это я, право, – и меня чуть не посадили!»
– Суд, суд. Кстати, о суде. Сколько вам собирались дать-то? Не пожизненное ли? – Петр Григорьевич задал вопрос и теперь стоял, обернувшись ко мне, и ждал ответа, а я от слова «пожизненное» пришел себя только на третий-четвертый вдох.
– Оно… – выдохнул я наконец, а то все выдохи получались какие-то половинчатые, кургузые, куцые, хотя вот опять, господи, – оно… конечно…
– Оно конечно, – подхватил Петр Аркадьевич, – кабы не Гнобий Гонимович. Но каков молодец? А? Согласитесь? В самое что ни на есть время подскочил, подоспел. Так ли?
– А…
– Понимаю. Слышал я, что и дело улажено.
– Дело…
– Аудит. Ваш аудит. Ведь не будете же вы утверждать, упорствуя, как в заученном, что прибыли сюда только ради того, чтоб повидать семейство Котовых в поселке Грушино? Было бы неразумно. Мы бы таки подивились.
– Я… не… будете…
– Вот и хорошо. Вот и славненько, Сергей Петрович, дорогой, и не надо так корневеть, коченеть, деревенеть. Отпустите себя. Внутри. Оставьте свои опасения. Оставьте все эти необдуманности, разуверения. Поверьте, все начинали со смущения. Смущения в душе. А потом уже – как по накатанному. А Крадо Крадович подготовит вам все бумаги.
– Бумаги?
– Само собой. Акты, бумаги – все, что надо при завершении аудита. А у нас и учет, и контроль поднят и почитай что всечасно находится на необычайной высоте. Так что уж не смущайте нашей радости, не брезгуйте.
– Не брезгуйте… – повторял я за ним, не в силах с собой совладать.
– Сергей Петрович! – оборотился ко мне полностью Петр Аркадьевич и даже сделал было навстречу полшага. – Полноте вам юдольствовать! Проводим вас в лучшем виде. Будете довольны. Проводим и на дорожку дадим.
– Дадим…
– Конечно же! А как же! Ведь это работа! Труд! Ваш труд и бденье! Но соразмерно со званием, конечно же, с должностью. Но не обидим. Никто! Вы слышите ли? Никто не посмеет вас обидеть, пока я здесь губернаторствую. Вы ведь провели у нас, почитай, целый день?
– День…
– И все-то на ногах, на ногах. В трудах. Ни в чем не находя разумения. И маковой росинки во рту не было, не случилось, не заблудилось.
– Не…
– Так и пейте, ешьте, веселитесь, а там – и честь пора знать, проводим вас к ночи.
– К ночи?
– Именно. Посадим в поезд, и поедете вы в свою Москву.
– А Грушино?
Петр Аркадьич даже рассмеялся:
– Никакого, друг мой, Грушина. Ни-за-что! Все. Кончилось. Окститесь. В Москву! В нее! В Первопрестольную! И документы вам справим. В полном порядке все будут. И вы будете. В – полном порядке. В полнейшем. Стоит ли по поводу сему роптать? Разумно ли сие? Ведь ежели ж вы упорствуете о Грушино, то не ровен час, что все мы относительно вас ошибались. А что оно означает?
– Что?
– Означает то, что вам раскрылись такие наши бездны, что и не приведи господь! Экстремизм…
– Экстремизм?
– Он самый. И куда ж в таком случае вы поедете, скажите на милость?
– Куда…
– Куда? Как можно отпускать с миром человека, которому известны все обстоятельства и который притом является человеком пришлым, со стороны, без роду и племени, не знающему, что у нас можно, а что ни за что нельзя. Ведь это же разрушитель, возмутитель общественного блага, созданного годами, руками тысяч и тысяч. Экстремист!
– Неужели?
– Ужели! Возможно ли его упустить?
– Упустить?
– Конечно! Упустить можно только своего. Только своего, батенька, дорогой вы наш Сергей Петрович. Того, кто думы думает. Наши думы и по-нашему. А соглядатаи-то, растлители, разрушители, уж поверьте мне на слово, вольные или же невольные, никому не потребны. Да и противны они. Природе. Ведь против нее, кормилицы, они, получается, и идут. Не так ли, Сергей Петрович?
– Так! Истинно так! – вскричал наконец-то я.
– Вот и славненько. Вот и чудненько. Сговорились, кажись. Вот и ладненько.
– А скажите, Ваше Высокопревосходительство, – вдруг пришло мне на ум задать вопрос.
– Да?
– Правильно ли понял я, что противников вашему управлению тут отродясь не случалось?
Я задал этот вопрос, а сам вдруг почувствовал, что какой же я все-таки дурак. Ну отпускают тебя с миром, так чего же ворошить темноту гадючью, беги, стремись отсюда, что есть в тебе сил. Но нет, сорвется с губ словечко несуразное, а потом вслед за ним и холод тебя обнимет. Холод предчувствия.
– Противники, говорите? – голос Петра Аркадьевича вдруг стал старческим и скрипучим, лицо стало подергиваться, заходили на нем желваки, а я уж в которых раз стал казнить себя за несдержанность.
– Отчего ж, – проговорил Петр Аркадьевич, справившись с собой окончательно, самым будничным голосом, – есть и противники делам нашенским. Вам хотелось бы с ними свидеться?