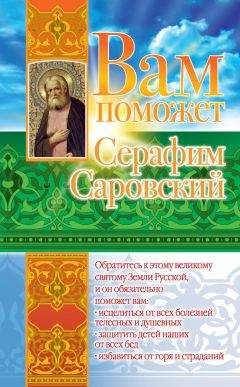Натиг Расулзаде - Записки самоубийцы
Короче, эти деньги уже становились мне остро необходимы, Маме я говорил, что подрабатываю, она верила, несколько раз пробовала узнавать от меня более подробно, каким образом, но я отмалчивался, переводил разговор, и она, тяжело вздыхая, не настаивала, тогда я принимался убеждать ее, что подрабатываю честно, попадается кое-какая работенка, и она успокаивалась, но ведь и в самом деле я подрабатывал, не крал же. Часто теперь приходилось принимать участие в попойках, что устраивал Нагиев, а порой, он доставал наркотики, и вся его шобла-вобла визжала от удовольствия, пробовали втянуть и меня, но я отказался наотрез, так, что с первого раза и отстали. От наркотиков они все балдели – смешно было смотреть, кололись, покуривали травку. Хитрый был Нагиев, такие с головой в кайф не уходят, слишком он был деловой для этого, слишком предприимчивый, не увлекался наркотиками, да и выпивкой тоже, день погуляет, отдохнет, потом всю неделю делами занимался. А дела у него шли великолепно, деньги хорошие делал, в основном, шмотками промышлял. Я как-то спросил его, как же так, что он нигде не работает, не боится, что тунеядцем его признают, а он – мне, почему это не работаю, говорит, с чего это ты взял, еще как работаю, и если хочешь знать, лаборантом при заводской лаборатории, видишь, говорит, от разных нехороших ядовитых химикатов совсем здоровья лишился. Хихикает. Понятно, говорю. Не удивлюсь, если он «работает» в лаборатории завода, на котором я раньше вкалывал. Жил он один на этой своей шикарной квартире, в свои тридцать четыре года был уже дважды женат и дважды разведен, фарцевал крупно, связь с другими городами имел, со спекулянтами тамошними, понятное дело, оттуда привозили товар, он туда посылал, меня как-то раза два послал в Москву и Вильнюс с большими посылками, в общем, дела делал, не зевал. Я часто отвозил набитые вещами сумки его матери, которая жила со слабоумной дочерью, сестрой Нагиева в другом конце города. Сестру Нагиева я видел мельком, когда ждал в прихожей у них, она была дауна, и хоть им и нелегко, определить возраст, но мне показалось, что ей не меньше сорока-сорока пяти лет, хотя выглядела она очень упитанным ребенком. Я и от матери Нагиева часто привозил набитые сумки – одну она мне вешала через плечо, другую – в руку, и кажется, в такие минуты очень жалела, что у меня не четыре руки, и даже не две. Вообще, в последнее время на такси только передвигался по пространству. А по времени… Черт его знает, передвигался ли вообще, вроде, и не двигалось для меня время, застыло, липкое какое-то… Однажды мне Нагиев говорит, поезжай, говорит, в аэропорт, приятеля одного из Одессы надо встретить. Надо так надо, я и поехал. Ну, встретил я его, парень оказался яркий, шустрый, весь модный, веселый. Перетащили вместе с носильщиком все его чемоданы в машину и поехали. У Нагиева уже сидели две девки – когда только успел? – и все трое чуть косые. С одесситом Нагиев обнялся, расцеловался, ну, и тут же пошла гульба. Я хотел было уйти, но Нагиев попросил остаться, выпить с ними, я и остался, тем более, что спешить мне было некуда, мама уже неделю, как выписалась из больницы, и пока чувствовала себя – тьфу, тьфу, не сглазить – неплохо. Мы пили водку, была икра, швейцарский сыр, который так любил Нагиев, маслины, грибы, маринованные баклажаны, осетрина на вертеле, кутабы. Потом пили шампанское. То Нагиев, то одессит время от времени уединялись с девочками в спальне, причем, каждый с обеими сразу, и когда уходил с ними одессит, то через некоторое время из спальни доносился визг и рев, отчего Нагиев пьяно мрачнел, а потом вдруг поднялся из-за стола и стал приставать к вернувшемуся из спальни Игорю, одесситу, допытываясь, почему девки врут, говорят, что с ним хорошо, а сами молчат, тогда как с одесситом визжат от удовольствия. Да разве в этом дело? – сказал Игорь и уселся за стол. Девочки стали хихикать, а он, то есть, Нагиев, рассвирепев, стал прогонять их, стараясь содрать с них свои халаты, что они нацепили, а когда они переоделись и стали требовать, что причитается, то он швырнул, вытолкав их на лестничную площадку, вслед им деньги. Игорь, догнав девочек, тоже расплатился, а когда вернулся, Нагиев, уже доведя себя до кипения, был очень зол на него и искал к чему бы придраться. Выпили еще и слово за слово, припоминая друг другу старые обиды, они сцепились, я вскочил, чтобы разнять их, но Нагиев грубо отстранил меня, велев не соваться не в свое дело, схватил Игоря за ворот, тряхнул и оттолкнул от себя. Оттолкнул он Игоря не сильно, но тот, пьяный, упал. Нагиев, не обращая на него внимания, сел за стол, отдуваясь, стал пить пиво, я приподнялся с дивана, чтобы посмотреть, почему это Игорь не встает и, подойдя к нему, заметил, как медленно стекленели его глаза. Эй, – сказал я Нагиеву, – посмотри. Отстань, – огрызнулся он и добавил, – он что, заснул там? Я расстегнул Игорю рубашку, приложил ухо к его груди – в Афганистане я научился распознавать еще тлевшую в человеческом теле жизнь – сердце не билось. Игорь упал, ударился виском об острый край буфета, висок его был вдавлен, височная кость проломлена, оттуда тонко струилась кровь. Парень был мертв, мертвее не бывает, черт возьми, и первое, что я подумал, что попал в дерьмо, почище, чем все остальное в моей прежней жизни. Я поднял голову – надо мной стоял побледневший, как полотно Нагиев. Он мертв, – сказал я, – ты убил его. Почему я сказал эти абсолютно ненужные и очевидные слова, не могу точно вспомнить, может, немножко уже предчувствовал, что за тем последует и хотел в какой-то мере оградить себя этой бесполезной констатацией фактов? Хмель, кажется, мигом соскочил с Нагиева. Спокойно – сказал он вдруг, и в самом деле выглядел довольно спокойным, если только не принимать во внимание сильную бледность, которая не сходила с его лица, – надо все обдумать. Мы сели за стол. Игорю мы уже ничем не могли помочь, уж я-то в жмуриках разбираюсь, если б оставалась хоть малейшая надежда, я бы тут же кинулся названивать в «скорую». Но он был мертв, и никакая «скорая» не в силах была его воскресить. Вот что, – вдруг проговорил Нагиев тоном человека, все решившего, помедлил немного и сказал, – ты это дело возьмешь на себя. Мне показалось, что я ослышался. Я даже удивиться не успел такой наглости, а он мне уже все объяснял по пунктам, доказывал, почему так, как он хочет, будет лучше для нас обоих, а в сущности, конечно, уговаривал. Я поздно понял, что меня уговаривают, и к своему несчастью, стал прислушиваться к словам Нагиева, вставляя только время от времени с глупой, растерянной улыбкой: «Ты что, с ума спятил?», «Ты с ума сошел?», что, конечно, не могло считаться антидоводом против Нагиевских доводов. Во-первых, – говорил Нагиев, не обращая внимания на мои содержательные реплики, – во-первых, ты участник войны – раз, награды – два, инвалид войны – три, непредумышленное убийство, я свидетель (тут я задохнулся от возмущения: он, видите ли, свидетель) – четыре, – невозмутимо продолжал Нагиев, – хороший адвокат, это уже мои проблемы, – милостиво добавил он, – пять, учитывая все эти козыри, дадут мало, точно тебе говорю, много не дадут, я все сделаю, а теперь слушай меня внимательно, – сказал он каким-то ледяным, почти угрожающим тоном, и я на самом деле стал слушать его внимательно, даже про реплики свои забыл, – вот что, – сказал он, – за каждый год твоей отсидки я даю тебе семь кусков, то есть шесть косых в месяц, ни тебе, пока ты меня не знал, ни твоей матери такие деньги не снились, поди заработай шесть сотен на своей стройке сторожем. Единовременно даю тебе пятнадцать кусков, чтобы, пока ты будешь загорать, твоя мать не нуждалась, кроме того, буду о ней заботиться, все, что ей нужно – сделаю, ты меня знаешь. Остальные бабки получишь после срока, как только выйдешь. Он сделал паузу, и тут я совершенно машинально вставил в эту паузу свою уже излюбленную реплику: «Ты что, с ума сошел?». Он молча несколько секунд смотрел на меня. Нет, он, конечно, не был похож на сумасшедшего. А теперь слушай меня еще внимательней, – сказал он, помолчав, – и постарайся шевелить мозгами. Ну, – сказал я. Если не берешь дело на себя, я, естественно, полетел, но обещаю тебе: сделаю все, чтобы ты пошел соучастником убийства, какие у меня связи, ты кажется уже знаешь, мне будет нетрудно поделиться с тобой сроком. Я прихвачу тебя с собой, обещаю тебе это так же твердо, как до этого обещал тебе бабки за отсидку. И если мы оба подзалетели, тогда после срока ты – голодранец, как и прежде. Тут мне захотелось пристукнуть его, я вскочил сжав кулак, но он хмыкнул, отвернулся от меня и равнодушно обронил – «Дурак». Я опустился на место. Посидели молча. Ну, – сказал Нагиев. – Мне надо подумать, – сказал я. Думай, – сказал он, – надо решать сейчас же. Я подумал, мне даже понравилось, как я хладнокровно могу взвешивать все «за» и «против»; то, что он прихватит меня с собой – это точно, ему это ничего не стоит. И тогда мама останется почти без средств, одна. Если я беру у него пятнадцать кусков и оставляю матери – это уже лучше, чем ничего. Выйду – возьму у него остальное, как договорились, и, уже имея деньги, может, смогу устроить себе дальнейшую жизнь, развяжусь с ним раз и навсегда, заживу уже без беготни по его делам. Да и разве в тюряге мне будет хуже, чем в Афгане, что там может быть такого страшного, чего я в Афгане, на войне не повидал? Я, мне казалось, все взвесил. И сказал – да, согласен. Я согласен, – сказал я, – давай пятнадцать кусков сейчас же. По рукам? – сказал Нагиев. Сказал же: согласен, – проговорил я, не подавая ему руки и не замечая его протянутую. А что же руки не подаешь? – спросил он подозрительно. Потому что мне противна эта сделка, – ответил я. Ладно, – сказал Нагиев, – только предупреждаю, с нами шутки не шути. Мы знаем, где живет твоя мама, так что, смотри, если хочешь обмануть, заранее предупреждаю – выкинь из головы. Я и не брал в голову, – сказал я, – а про маму мою, чем меньше будешь вспоминать, тем здоровее останешься. Ладно, ладно, – говорит, – не кипятись, это я предупредить только. Он ушел в спальню и вынес оттуда пачки денег, Пятнадцать, – сказал он, – ровно, будешь считать? Нет, – сказал я, – но остальное потом, как выйду. Как договорились, мое слово железное, ты знаешь, – говорит, – за каждый месяц – шесть косых, сколько бы ни отсидел. Да ты не пугайся, это я так сказал, а вообще-то, точно тебе говорю – больше пятерки не получишь, ну, может, от силы лет шесть, да и то половину скостят под амнистию, вот увидишь, так что, еще моли бога, чтобы я тебе помимо этих пятнадцати кусков должен остался, боюсь, как бы ты сам мне не задолжал, не пришлось бы разницу возвращать, – говорит. Ну, последнее, ясное дело, он для красного словца, для того, чтобы меня успокоить сказал. Разговорился на радостях, что такого болвана, как я удалось облапошить, уговорить на такое гиблое дело. Да, впрочем, оно и для меня было гиблым, мне бы не отвертеться, возьмись он меня под статью протащить. Ну, ладно. Была уже ночь, я поехал домой, спрятал деньги в кухонном шкафу (кому придет в голову грабить такую квартиру, как наша с мамой?), оставил маме записку, что уезжаю в другой город, чтобы сразу не пугать – все равно она узнает, будут вызывать, ясное дело, но что же мне было ей написать, что человека убил, а деньги за это полученные тебе, мама, оставляю? – написал, что буду письма слать, пусть не беспокоится, все у меня хорошо, написал, что деньги, что она обнаружит, это мои деньги и, следовательно – и ее, они не ворованные, и потому, прошу ее тратить их на себя, пока меня не будет дома, что, впрочем, соответствовало истине – не украл же я их, в самом деле, а буду отрабатывать, расплачиваясь годами своей жизни, и как же их тогда и называть, как не заработанными? Потом тихонько подошел к изголовью спящей мамы, поцеловал ее осторожно (в какой-то миг мне вдруг захотелось разбудить ее, захотелось, чтобы она проснулась и я бы ей все рассказал, может, поплакал бы, если б смог, положив голову ей на колени, но сумасбродная эта мысль продержалась, к счастью, недолго) и вышел, заперев дверь своим ключом и кинув ключ в раскрытую форточку прихожей. Наша с мамой квартира была на первом этаже старого, довоенной постройки дома и все соседи тут, во дворе хорошо друг друга знали и любили повторять, что близкий сосед лучше дальнего родственника, и старались на деле это доказать, потому я в какой-то мере был спокоен за маму, знал, что соседки не оставят ее совсем одну, но какая бы от них ни была помощь, это не исключало того, что средства к существованию она непременно должна была иметь. Шел я по ночной улице и, помню, когда выходил на проспект, возле цирка, чтобы поймать машину, вдруг совершенно непонятно и неожиданно для себя подумал – как давно мне не приходилось бывать в цирке, наверно, с самого детства, а ведь цирк я люблю без памяти, в детстве каждое посещение цирка, обычно с покойным отцом превращалось для меня в настоящий праздник, и мне тут же на улице, так вдруг захотелось пойти в цирк!.. Ну, ладно. Короче, поймал машину и поехал к Нагиеву, остановив ее, как он просил, за два квартала от его дома. Нагиев старался казаться спокойным, старался показать, что нисколько не сомневался в моей порядочности и честности. Мы с ним выпили, больше я, чтобы набраться смелости, и под утро я стал звонить в милицию… В общем-то, мы с Нагиевым, вроде, все учли. Все, кроме одного. Следователь и еще один сучонок на допросах избивали меня, били умело, профессионально, в основном, по голове и в живот, чтобы не оставлять следов, хотели из меня признания выбить. Я сразу понял, что нужно следователю. Он хотел, чтобы я взял в соучастники Нагиева, на котором он мог бы неплохо нагреть руки. А с меня что возьмешь? Гол, как сокол. Ну, и били же меня, гады, но я выдержал, не сломался, и, наконец, вынуждены были передать дело в суд, как дело о непредумышленном убийстве, Суд расценил дело, как несчастный случай с одним для меня отягчающим обстоятельством – я был пьян. Этот покойный Игорь тоже хорошим фруктом оказался, во всесоюзном розыске находился, как аферист и тунеядец – вот люди, а, его ищут (только непонятно, как), а он из города в город разъезжает, разодетый, как попугай, да еще уйму чемоданов с собой таскает. Это, по моему, тоже сыграло для меня свою маленькую положительную роль. Короче, Нагиев как в воду глядел, срок дали небольшой – пять лет трудовой колонии усиленного режима. Адвокат был хороший, толковый, Нагиев выполнил свое обещание, и многое, как он говорил, зачли мне: что инвалид войны, что награды имею и прочее, хорошо, хоть в этом помогли мои былые заслуги. Ну, значит, отправили меня в зону, Мордовская ССР, пишите письма, ау! Вот так я и оказался в колонии, не успев еще как следует отдохнуть после Афганистана. Да, хлебнул за свои двадцать пять… Мне и войну вспоминать не хочется, страшно становится, до сих пор сны афганские снятся, будто наша часть готовится к бою, или едем, колонна БТР в долине мимо проклятых гор, затаившихся, страшных, где, как хорьки, душманы, обстреляв колонну, мгновенно прячутся в сообщающихся пещерах, меняют месторасположение зениток, или, вижу, как, пройдя подземными ходами из обстрелянного нами селения, они неожиданно оказываются у нас за спиной, и мы уже – в окружении, должны прорвать кольцо… Вскакивал в ужасе, от собственного крика просыпался… Порой удивляешься – неужели я наяву прошел через весь этот ад? Ну, ладно… Не хочется говорить об этом. Не представляю, как можно писать о войне? Разве, что через много лет, ведь даже вспомнить просто страшно… Или, может, я трус, или нервы расшалились?.. Ну, ладно… Короче, очутился я в зоне. В один из первых же дней после работы – отбой – вхожу в барак, устал, как собака. Я поначалу в стороне от всех держался, ну, ясно, про меня, тут все, кому надо, всю подноготную знали, по какой статье и какой срок тяну, но я, все еще, по всей видимости, для некоторых оставался темной лошадкой. И вот, кажется, решили прощупать, что я из себя представляю, фраер зеленый или блатной. С койки у окна, в центре барака – место считалось почетным – когда я глянул в его сторону, молча поманил меня пальцем зек лет сорока на вид, здоровенный бугай с лошадиной мордой. Я подошел. А рядом с ним стоят двое, щерятся, видно, предвкушают представление. «Ты чего такой?» – спрашивает меня лошадиная морда. «Какой такой?» – говорю. «Некультурный какой-то, – говорит лошадиная морда и прибавляет ласковым голосом. – Ну-ка, скидай обувку»– «Это еще зачем?» – говорю. «Скидай, скидай, – говорит зек рядом с лошадиной мордой, – когда сам пахан велит. А то и вторую руку оторвем». Я понял, что если сейчас же не поставить точку над их мелкими издевательствами, то они неминуемо перерастут в дальнейшем в крупные. «Ну что ж, – говорю, – если сам пахан велит, делать нечего». И снимаю ботинки. А он, вижу, пахан этот, подмигивает своим ребятам, те меня аккуратно отодвигают от него, а пахан снимает штаны и говорит мне, ты понимаешь, говорит, поссать захотелось, а до параши идти неохота, так там некультурно воняет. Вытащил, значит, помочился, я, было дернулся к нему, да тут же меня оттолкнули, а потом зовет меня, снеси, говорит, выбрось в парашу, я и подошел, ребята пахана посторонились, пропуская меня, а весь барак наблюдает за потехой, подошел я, значит, нагнулся мирно, спокойно, а сам весь вскипаю изнутри, взял ботинок осторожно, чтобы не пролить его мерзкое содержимое и с размаху надел на голову пахану, никак не ожидавшему от меня подобной дерзости, нахлобучил изо всех сил на его голову, благо, головка у него была маленькая, раза в два меньше, чем его же кулаки, ботинок мой ему впору пришелся, по самые уши налез, ну, и моча, естественно, оросила обильно его лошадиную морду, что и требовалось доказать. Орясин пахана я вмиг раскидал – вот где моя афганская подготовка пригодилась – достал их пару раз ногами, они и отключились, любезные, со своими кастетами, а с самим паханом пришлось повозиться, он, сука, нож вытащил, да и опытен был в драке – голыми руками не возьмешь – пришлось попотеть; этот пахан оказался крепким орешком и, несмотря на свой уже немолодой возраст, от ударов моих очень ловко увертывался, и сам нередко бил меня смертным боем, стараясь попасть в голову или поддых. Нож я у него сразу отбил, почти в начале драки, и теперь мы были на равных. Бился я с ним, в основном, головой и ногами, руку как бы про запас держал, и когда он, казалось, вовсе забывал о том, что у меня, хоть и единственная, да все же есть рука, я неожиданно пускал ее в ход и, порой, очень удачно, но свалить, сбить его с ног мне почти не удавалось, или же сбивал, но он моментально поднимался вновь, впрочем, и ему не удавалось сбить меня; отдышавшись, мы вновь кидались друг на друга, уже оба сильно избитые, усталые, рожи – в крови и ссадинах. Попыхтел я с ним, короче, чуть ли не до рассвета, ни один зек в бараке не вмешивался в наши дела, некоторые, кажется, даже спать улеглись, которые преимущественно на верхних койках, потому что шуму, в общем-то от нас было немного. К утру мы оба еле дышали, приближались друг к другу, цепляясь за стены, но мне удалось собраться и вмазать ему по его лошадиной морде головой своей свежеобритой, он полетел на несколько шагов и упал на пол, так и остался лежать, где упал, потерял сознание, Да и я, честно говоря, был близок к потере сознания. Ребята пахана давно проснулись от спячки, в которую я их послал, но тут – потом мне говорили – кое-кто вмешался и их не подпустили ко мне, решили: пусть один на один выясняют между собой, это про нас, то есть. Даже эта драка, продолжавшаяся несколько часов, не убавила во мне злости за нанесенное оскорбление, за все безответные оскорбления, нанесенные мне, не убавила, да и не могла убавить всей накопившейся во мне злости. Я оттащил пахана к параше – тут возникли его дружки, но я уже завладел ножом пахана и кинулся к ним, готовый распотрошить любого, они, может что-то заметили в выражении моего лица, страшное было, наверно, лицо у меня, и они не стали вмешиваться – ну, оттащил, значит, я пахана к параше, стал над ним, еле переводя дыхание, и помочился – на его изуродованное лошадиное лицо. Он так и не очнулся, а я пошел, вернее, почти пополз к своей койке и упал на нее, дальше не помню ничего. Конечно, начальство потом дозналось про все, даже дознаваться не надо было, одни наши рожи красноречиво обо всем говорили, я отсидел в карцере тридцать положенных суток, но, когда меня выпустили и я вернулся в барак – как в дом родной, честное слово, таким он мне показался уютным и желанным после карцера – когда, значит, вернулся, паханом тут уже был я, и хоть меня и прозвали здесь одноруким, что было, впрочем, вполне естественно, теперь это слово все произносили с уважением. Мне, однако, вовсе не нужно было предводительствовать тут, не этого добивался я в драке с паханом, единственное, чего я хотел, чтобы меня оставили в покое, дали бы спокойно дотянуть срок и вылезть отсюда. И этого я, вроде, добился. Пахан после своего позора хотел в карцере порешить себя, да ничего не вышло, нечем что ли было, не знаю, мне наплевать на это, не позорь других и тебя не будут позорить, вот что я знаю. В дальнейшем мой срок в зоне проходил без особых приключений, если не вспоминать разные случаи по мелочам, и насколько можно в таком месте прожить без приключений. Конечно, было всякое. Приходилось во многое вмешиваться, раз уж признали меня авторитетом, восстанавливать справедливость, которая, надо сказать, здесь совсем не в том понимании, как на воле, справедливость в рамках законов здешних, зековских, и потому все мои вмешательства в дела имели предел, потому что, как на воле нельзя нарушать закон, так и здесь, какой бы ты ни был авторитет, нарушать его тебе не позволено, а нарушишь – вмиг слетишь с авторитетства своего и прямо в говно. Тюряга имеет свои законы, короче, и через них не перешагнешь, я это на своей шкуре испытал, когда однажды хотел предотвратить изнасилование блатными новенького, который тянул срок за то же самое, что с ним сотворить собирались. Ты же видишь, что это сука, – сказали мне в бараке и это оказалось верно, парень на самом деле, был трусливым и подлым, и в дальнейшем стал стучать лагерному начальству, и я тогда понял, что это именно тот случай, когда нельзя вмешиваться, с ним все равно сделают, что задумали, дождавшись, как нибудь моего отсутствия, а я буду выглядеть охломоном и фраером. Правильно я сделал еще потому, что парень оказался неожиданно завзятым педом, и я просто рисковал поставить себя в смешное положение. Одно время, поначалу вступили со мной в контру беспредельщики, но, убедившись, что я не хуже них отчаянный и на беспредел их мне начхать, отступились, и после первого конфликта мы уже не портили друг другу житуху. Но в зоне я много понял, век воли не видать, ей богу, а главное, понял то, что никакого преступника тюряга не исправляет, а наоборот, озлобляет еще больше, и что самое страшное, случайно сюда попавших людей зачастую делает отпетыми, а случайных тут было – пруд пруди. У нас в бараке был учитель один, у которого нашли там какие-то рукописи и сочли их подрывающими основы, а он, фраер, так не считал и даже по редакциям их рассылал, сам мне рассказывал. Был еще один профессор, химик, пьяного сбил на машине. И еще один был директор школы, но тот по делу сидел, за взятку срок припаяли, аттестаты отличные продавал по пять косых штука, ну его и взяли с вещуликой – пятьсот, аккуратно переписанных у ментов. Жалко мне было интеллигентов, какие-то они все беззащитные, мягкие, я, сколько мог, брал их под защиту. Ну, что еще?.. О зоне можно много вспомнить, да неохота, не в этом дело, сюда я ведь по собственной воле попал, не сладко тут, конечно, но хуже всего здесь безвинно осужденным, представляю, какая обида должна их грызть, что они должны переживать, это же можно вовсе разувериться, что есть справедливость на свете. Ну, ладно… Вышел я раньше срока – под амнистию попал к ноябрьским праздникам восемьдесят четвертого года – это тоже рассчитал гаденыш – Нагиев. И вот, оказался на воле. Это после зоны какое-то непередаваемое ощущение, век свободы не видать! Казалось, что теперь уже все плохое позади, а впереди должны быть одни радости, ну, в самом деле, разве мало хлебнул я на своем веку? Однако, я, видимо, упустил из виду главное – радости надо было делать своими руками, в моем случае, своей рукой… Ладно. Рад, конечно, домой еду, жду встречи с мамой, по ней я соскучился жутко и поволновался немало, хоть и переписывались с ней часто, думал-передумал о ней я там, аж мозги раскалялись, жалко мне ее было – хоть плачь, чего она только не перенесла, не вытерпела из-за меня, ждала с войны, ежедневно помирая со страха, ждала из тюряги, состарилась раньше времени, все глаза выплакала, бедная, и тогда я дал себе слово там, в зоне, что, если выйду, то есть, когда выйду, сделаю все, чтобы она не нуждалась ни в чем, хватит победствовала, все сделаю, чтобы жила нормально, ни в чем отказа не будет знать, чтобы мне сдохнуть, иначе, какой же я сын, век воли не видать? Еду, значит, смотрю из окна поезда на поля, пустые степи, небольшие лесочки попадаются, и как ни увижу какое-нибудь живописное место – думаю, вот бы хорошо тут домик построить и жить с мамой подальше от всех, а что, разве плохо, живи тут, горя не знай, не то, что в городе, в болоте людском, где так и норовят унизить, оскорбить, наплевать в душу, подвести под монастырь, где на каждом шагу вынужден держать себя в руках, чтобы не заехать в морду оскорбившему твое человеческое достоинство… Мама когда увидела меня, чуть сознание не потеряла от радости, хоть я и писал ей, что возвращаюсь. Я подхватил ее, усадил на диван, накапал ей валокордину. Немного пришла в себя и стала тихо плакать. Ну, что ты, мама, – говорю, – все же хорошо, что ты, успокойся, родная… Она, конечно, здорово сдала, постарела еще больше, болезни замучили, со зрением стало хуже, да и моя биография ей здоровья не прибавила. Конечно же, она и на суде была, и жалобы писала, рассылала во все инстанции куда только можно было, вплоть до генерального прокурора страны, писала, что сына ее оклеветали, заставили взять на себя убийство, что он не может быть убийцей даже случайно, просила в письмах, чтобы тщательнее разобрались в этом (вот следователь и разбирался, выколачивал из меня правду, ну, ладно, дело прошлое), из сил вся выбивалась, пока я отсиживал свой срок. Но я вышел, говорю ей, я с тобой и все хорошо, мама, теперь все будет хорошо, все плохое уже позади. Потом, когда все главное было сказано, основные разговоры были переговорены, она меня о деньгах тех спросила. Я говорю, одно могу тебе сказать: деньги эти не ворованные, они принадлежат мне, а значит и тебе, я ведь в записке своей писал об этом. Я знаю, говорит, я сразу этому поверила, когда прочитала твою записку, знаю, что ты не обманешь, что не украдешь, но откуда, откуда у тебя столько? Не спрашивай, говорю, я тебе сказал – не ворованные, и это ведь главное, правда? Я боюсь, говорит, боюсь, как бы ты снова не попал в дурную компанию, как бы не оступился, большие деньги нам ни к чему, говорит, что с ними делать?.. Тут я, зная мамин характер, наивный и бесхитростный, насторожился, но ничем этого не выдал, ничего не сказал, ждал – сама все скажет, что надо. Ну, конечно, вскоре призналась, что десять тысяч Акраму отдала, Зачем? – спрашиваю. Она стала заметно волноваться, сразу убеждать меня принялась, будто я о чем-то с ней спорил и не соглашался, я же просто спросил, я ведь ничего, но она так разволновалась, что я пожалел о заданном вопросе. Выяснилось, что Акраму срочно понадобилось покупать квартиру, даже не квартира это была, а домик в пригороде со своими маленьким участком и садиком, потому что в старой квартире, где они жили, была ужасная сырость и двое детей уже болели ревматизмом. Ну, что на это возразишь, ничего, конечно, родной брат взял деньги на такое нужное, можно, сказать жизненно необходимое дело – речь ведь идет о здоровье детей, а что может быть важнее этого? Все правильно, говорю, все правильно, мама, одно не могу понять, почему он вспомнил о тебе именно тогда, когда у тебя появились деньги? Ничего подобного, говорит мама, она даже испугалась, услышав мои слова, мне показалось, что она ожидала, что я скажу что-нибудь в таком духе, видимо, и сама думала об этом. Ничего подобного повторила мама, опять приходя в сильное волнение, – просто он написал мне письмо, откуда ему было знать, что ты оставил мне деньги, откуда ему было знать вообще, что у нас тут творится? А оттуда, – говорю, начиная кипеть, – что я из зоны отослал ему в самом начале одно письмецо, чтобы он не оставлял тебя без внимания, пока я там, вот он и не оставил. Да мне много ли надо? – говорит мама, – Одно нехорошо вышло: деньги, получается, без твоего разрешения я отдала, деньги ведь твои, я уже писать хотела тебе об этом, спросить разрешения, можно ли отдать, а тут как раз твое письмо получила, что возвращаешься, это ведь совсем недавно я отдала ему деньги, с месяц, наверно, или полтора назад, и, думаю на радостях, ну, что, думаю, Рустам, слава богу, возвращается, проживем как-нибудь, главное, что деньги эти честные, не ворованное, а как же сыну родному отказать, если у него такое серьезное дело? А он ведь и не просил у меня, просто написал большое письмо, где подробно спрашивал, не нужно ли мне чего, а заодно и о своих делах и неприятностях сообщил. Ведь может же быть такая минута, когда захочется написать матери большое письмо, будто всласть поговорили по душам, правда? Да, говорю, может быть такая минута. Ну вот, заметно обрадовалась мама, и он написал, заодно уж сообщил, что домик продают за десять тысяч, в пригороде, воздух там чудесный, детям хорошо будет, а так они болеют, он уж и не знал, как быть. А я в ответ написала, что могла бы дать ему эти деньги, но что деньги твои, и я должна спросить у тебя разрешения, и лучше будет если он сам за ними приедет, за деньгами, то есть, потому что по почте такие деньги отправлять мне страшновато, потеряют вдруг и вообще, если спросят, откуда у меня, что я скажу? Он и приехал, с сыном приехал, – с гордостью уточнила мама, будто то, что ей привезли показать внука, одного из внуков, точнее, ей прежде следовало заслужить, и вот она горда, что заслужила это, – погостили два дня, похудел, бедный, тяжело ему приходится, – тут мама вздохнула, помолчала немного, потом продолжила, – седых волос у него полно, я и не видела, как он начал седеть, вся голова почти седая… Ну, вот, погостили, значит, и уехали. Сказал, что обязательно вернет, чтобы ты не беспокоился, и говорит, не брал бы у меня, если бы не острая необходимость – дети болеют, им, говорит, во что бы то ни стало со старой квартиры съехать надо, нельзя оставаться в такой сырости, болезнь обостряется. Причина нешуточная, Рустам, сам видишь. Мы ведь с тобой не пропадем без этих денег, а, Рустамчик, верно ведь? Не пропадем, – говорю, – бог с ними, мама, с этими деньгами, ты так говоришь, будто оправдываешься, а это ведь твои деньги, я же писал тебе, чтобы ты тратила их, как тебе нужно. Расскажи лучше о себе, как ты жила это время? Как я могла жить, – говорит, – сильно скучала по тебе, беспокоилась, дважды в больнице лежала пока тебя не было, соседям спасибо, очень помогали, ох, если бы не они, не знаю, что бы и делала, кто на базар сходит, кто за хлебом, кто в аптеку, кто «скорую» вызовет, ноги у меня совсем никудышные стали, пухнут в пухнут, что с ними будешь делать, к ночи болят, обычно… Ну, не буду тебя своими старческими болячками пугать… Да! Чуть не забыла, у меня еще осталось целых четыреста рублей! Эх, мама, – говорю, – что такое в наше время четыреста рублей? Для некоторых это карманные деньги, которые они могут истратить в одну минуту. И тут же спохватился, что зря я это сказал, не подумал, честное слово, без всякой задней мысли сказал, машинально выговорилось, а мама, смотрю, помрачнела, наверно, приняла, как упрек себе. Я глупость сказал, – говорю, обнимая ее за плечи, – не обращай внимания, мама. Подальше бы ты от таких людей держался, сынок, – говорит. От каких таких? – удивился я. От тех, кому четыреста рублей в одну минуту потратить ничего не стоит, – говорит, – не доведут они тебя до добра. Э-э, – говорю, – за меня не бойся, я теперь ученый, битый-перебитый и осторожный… А ночью, когда уже спать ложился, она подошла ко мне и спрашивает: Ты очень огорчился, – говорит, – что я деньги, десять тысяч твои Акраму отдала? Нет, – говорю, – я уже забыл, – я и вправду почти забыл об этом, потому что за Нагиевым, как мы с ним условились еще был небольшой должок, немного, правда, набегало, но для меня сейчас это были немалые деньги, и эта мысль про долг немного успокоила меня и я на самом деле стал забывать о деньгах, отданных Акраму, какая разница, если скоро я должен был быть при бабках? Не огорчайся, сынок, – говорит мама, – ведь он твой родной брат, вы должны помогать друг другу, поддерживать, когда кому-то из вас плохо. Да, – говорю, – ты права мама. Но он обязательно вернет, – говорит мама, – он обещал, сказал, что вернет частями. Если б не это, я бы сохранила для тебя, мне много ли надо, больше пятерки в день у меня не уходило, только вот в больнице два раза пришлось дать немного, если бы не острая нужда Акрама в этих деньгах, я бы сохранила их для тебя. Не думай об этом, мама, – говорю, – отдала и правильно сделала, что ты оправдываешься, честное слово… Она помолчала, потом говорит – оправдываюсь потому, что для таких людей, как мы с тобой, сынок, деньги трудно достаются, их ценить надо, особенно, если они заработаны честно… Конечно, честно, – говорю, – не сомневайся. Я не сомневаюсь, сынок, – говорит, – я всегда верила тебе, и тебе, и Акраму, и очень хочу, чтобы вы поддерживали друг друга, вы же родные братья, нельзя забывать об этом. Ну, спокойной ночи, Рустам. Спокойной ночи, мама. Вышла из комнаты. Поддерживать друг друга. Да, думаю, хорошо он меня поддержал в трудную минуту. Старший брат называется. Хотя что он мог? Я те оправдания мамины еще потому запомнил так подробно и весь разговор о деньгах, что мне, честно говоря, обидно немного стало, если б она еще на себя потратила – дело другое, а тут, выходит, за что я в зоне ишачил? Хотя с другой стороны – дети болеют, крыша над головой нужна, первое дело это – тоже понять можно. Мне запомнилось, как мама за весь этот разговор изо всех сил старалась создать у меня доброе впечатление об Акраме, внушить мне, что он хороший человек, и мы должны с ним сблизиться. Короче, на большую дыру хотела маленькую заплату поставить. Да и как с ним сблизиться, когда он годами не подавал вестей о себе? Мы с ним давно успели стать чужими друг для друга. И разница в возрасте тоже, если б хоть в детстве дружили, а так из детства, что касается Акрама, помню только, как он покрикивай на меня, поучал и награждал подзатыльниками. С тем я и заснул, и наконец-то, за много дней, а вернее, ночей спал спокойно, без кошмарных сновидений. На следующий день я отправился к Нагиеву. Принял он меня хорошо, даже, по-моему, обрадовался, что я вышел, стал угощать дорогим коньяком, сигаретами, но был как-то необычно немногословен, и по всему можно было почувствовать – это уже был не прежний Нагиев-фарцовщик, хоть и крупный, но все же всего лишь спекулянт, цыпленок пареный, теперь это был почти во всем другой человек, говорил не спеша, тщательно взвешивая слова, не хохотал и мало, скупо улыбался, и взгляд у него был такой, ну, будто смотрит он и не видит тебя, и в то же время усиленно, лихорадочно обдумывает, как бы ему тебя использовать, что еще из тебя можно выжать. Он подробно спросил меня, как я сидел, не завел ли там ненужных знакомств, все ли хвосты в зоне обрубил за собой, не станут ли выходить на меня дружки-приятели по зоне, расспрашивал не хуже заправского следователя. Да, изменился Нагиев, что и говорить, мне это сразу бросилось в глаза, он даже обстановку в квартире поменял, квартира была теперь обставлена хоть и по-прежнему богато и, может, даже еще богаче, но без крикливости, строже, не было прежней нахальной яркости, дорогих безделушек, огромных фотографий половых актов, развешанных по стенам в спальне. Короче, все эти изменения, пожалуй, говорили о том (я это почувствовал только) что Нагиев, верно, взлетел еще выше, может, в опасные, рискованные выси; я, конечно, не знал, да и знать не хотел, чем он занимается, я пришел по своим делам, и когда на очередной мой какой-то незначительный вопрос он опять надолго замолчал перед ответом, надулся, как мышь на крупу, видимо, в претен