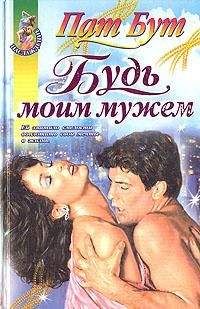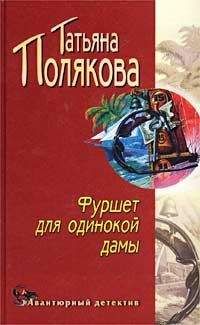Елена Бочоришвили - Только ждать и смотреть
Они и про страну, в которой жили, говорили: “Хорошая страна Канада, да дурная!” Берут нас сюда, а как жить – не говорят! Мы ведь без указок не можем, не привыкли! Мы не вы!
И раз в месяц, точно по расписанию, словно их кто-то ждал, словно они кому-то были нужны, словно в доме профессора Дюбе и без того не было полно людей, чьи имена уже начинали путаться, а сами они – болтаться под ногами, приезжали профессорские взрослые дети – Бен и Лиз. И Лиз – с подругой! И эмигранты умирали от страха – а вдруг с Андро случится приступ? И не спрячешь ведь его – он поет! И Лиз скажет отцу – я вот тут приезжаю со своей лесбиянской подругой, а твой брат на дереве поет! Зачем ты привез его сюда, разве в Канаде своих сумасшедших не хватает? И эти жильцы – приживальцы – зачем они тебе? Эмигранты – обломки затонувших кораблей!
– Выгонит, сука, – говорил полковник, который служил на государственной южной границе в герметически закрытом государстве и потому все знал, – на деревьях спать будем!
Эмигранты не опускались до мысли, что Лиз на них наплевать. Что они с их железными зубами и пустыми разговорами на кухне, и дядя, что раздевается, и отец, что вечно на пианино стучит, и мать, что ходит под себя, но с прекрасной грудью, – да сдались они ей! Лиз хотела ребенка завести. Ей, как в хоккее, надо было забить гол и сесть на скамью.
Лиз приезжала со своей любовницей, безгрудой балериной с чугунными ногами, и занималась делом. Балерина упирала бритую голову в кожаный диван и поднимала кверху мускулистые ноги. Лиз заливала в нее продукцию таким же шприцем, каким Наташа Черная поливала маслом куриц. И все у них было расписано по минутам, жильцам не обсуждать, а восхищаться следовало бы. Как только самолет шел на посадку, Лизина любовница начинала овулировать. Вот какая организация труда, это тебе не коммунизм.
Барабанщик Бен, младший сын профессора Дюбе, уже был на месте, с журналом в руках и новой татуировкой на теле. Такой же длинный, как и сестра, но не квадратный, не холодильником, как она, а худющий. Лиз его доставала из всех городов, где у него бывали гастроли. Он всегда приезжал на день раньше, чем сестра. Он ей нужен был отдохнувший, в хорошей физической форме. Лиз потребовала, чтобы он слез с наркотиков, и он слез. Может, ему самому было интересно – как это, без наркотиков? Колеса самолета касались земли, бритоголовая балерина начинала овулировать, а барабанщик Бен – собирать продукцию в чистую баночку.
Нет, не коммунизм.
А вот в профессорском доме никак не могли вы числить, когда же Лиз приезжает. То ли на следующей неделе, то ли через две. Сидели и гадали, распивая чай на огромной профессорской кухне. И Монреаль валялся под самыми окнами и держал в объятьях талый снег. Ровно на двадцать восьмой день, товарищи коммунисты! Каждый раз, когда Бен появлялся в дверях со своим “Плейбоем” в руках, все прямо отпадали. Не ждали! Начиналась беготня по этажам и перетаскивание мебели. Слава богу, он на день раньше Лиз приезжал, она бы их быстро считать научила.
– Сколько у них здесь геев, с ума сойти! – возмущались жильцы-эмигранты. – У нас тоже, наверное, есть, но ведь не так же нахально, не вслух! И отчего женщины становятся лесбиянками? Из-за несчастной любви?
В дни, когда приезжали дети, у профессора вдруг появлялись дела. Его выстреливало из подвала. Он куда-то ходил, кому-то звонил. Он будто избегал их, собственных детей. Не было между ними общения, как раз того, что бывает между эмигрантами, когда они все из одной страны. Говорили, что профессор ходит к психологу и платит ему за то, чтоб тот его выслушал.
– Педик! – заключал о нем полковник. – Все они тут педики!
А разве сам полковник говорил кому-нибудь о том, что думал? И разве легко найти человека, который тебя выслушает?
Ванечка собирал свою постель в комок – освобождал кожаный диван. Он переходил спать в самую дальнюю по коридору комнату, с окнами в сад, где когда-то, всего на два дня, останавливалась актриса Екатерина, на любовь не способная, и где еще валялись ее желтые туфли, в которые все влезали, да никто не влез. Он шел со своим бельем по коридору и напевал: “Весна моя, любовь моя…”
За его песню даже Лилька-Блин бы жизнь не отдала.
И вот так, очень быстро, дом профессора-этнолинг-виста Ришара Дюбе заполнили люди из разных экс-посткоммунистических стран. Эмигранты – обломки затонувших кораблей. Вынесло их волной на берег – иногда людей, а иногда щепки. Так падают в ящик шахматные фигуры после игры. Король склоняет голову к ногам чужих пешек, королеву ласкает бешеный слон. И все равны. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Но каждая пешка ждет в награду ферзя только за то, что она проходная.
– Как же она Наташа, если она черная? – просипел глухой Пармен, примеряя на себя желтые туфли актрисы Екатерины. Каждый, кто видел Наташу, об этом спрашивал. Он почти влез в желтые туфли и пытался пройтись в них, идя вперед и глядя влево.
– Папа ее был из Камеруна, а мама русская, – объяснил полковник с железными зубами, который вообще-то был подполковником, но никому не хотелось ломать язык. И знал полковник все потому, что служил на южной границе, а не на северной. А у тех, кто на северной служит, мозги от холода застывают. Без солнца…
Полковник предупредил Пармена: “Ты над ней не смейся, в этом доме над черными не смеются!”
– А тебе какая разница, интересно? – просипел глухой старичок.
– Есть, значит, разница, – ответил полковник. – Птичка ты безголосая…
Профессорский дом стоял на вершине горы Мон-Рояль, на самой престижной улице города, где, по словам Наташи Черной, за миллион можно купить только мусор, а под ним валялся, дымился, искрился и мигал огнями весь Монреаль. Но соседи вокруг не смотрели в занавешенные окна и не любовались. И зачем тогда иметь дом “с видом”, если на “вид” не смотреть? Не мы! На самой престижной улице города никто никогда не открывал окон. Хотя жили ведь люди – вылетали из гаражей блестящие машины на огромной скорости, не успеешь разглядеть. Лишь жильцы – приживальцы! – профессора Дюбе пили бесконечный чай на огромной кухне и смотрели вниз, на синий город, по старой коммунистической привычке ничего не делать. Лилька даже открывала окно, когда курила, – вытряхнуть пепел или выбросить бычок, а полковник – только чтоб покричать на Андро. У полковника был страх высоты, который с годами не слабел, а крепчал, полковник уже себе под ноги смотреть не мог – высоко!
Экс-коммунисты ходили по разным кабинетам и встречались с бюрократами, как все эмигранты. Отдавали бумажки, получали бумажки, ждали, ждали. Бюрократы не общались с ними – может, им было не положено, а может, они не умели. Как профессор Дюбе! Не разговаривали с ними “по душам” и люди на улицах и в магазинах – всем было некогда. И телевизор жильцы смотрели, и радио слушали, да ничего не понимали! Потому эмигранты жили как на острове – общались друг с другом, и все. Хоть и не было у них ничего общего, кроме прошлого, нелюбимого. А разве нелюбовь объединяет? Пролетарии всех стран, соединяйтесь?
Глухой Пармен, безголосый, нашел лестницу, приставлял ее к дереву каждый раз и ждал, пока Андро слезет, в одном носке. Он водил Андро вокруг дома, держа за руку, как ребенка. Так водят по кругу взмыленных лошадей после забега.
– Меня в войну танк переехал, знаешь, – сипел он Андро, а сам шел вперед и смотрел влево. – Никто мне не верит! Лошадиного дерьма на поле полно было, я в него лицом зарылся. Дерьмо меня и спасло…
Длинный Андро семенил за маленьким Парменом по пустынной улице, мимо замков с закрытыми окнами, мимо диковинных садов и бассейнов под серым, талым снегом, и приходил в себя. “Я тебе верю, – говорил он глухому Пармену, – верю!” И шел мириться к Ванечке с корабликом в руках.
– Как же ты мог, – плакал Ванечка, двадцатилетний борец в костюмчике из детского отдела, – ты же мне как отец!
Андро смотрел себе под ноги, обутые – он в доме никогда туфли не снимал, и за это Наташа его ненавидела, – и молчал, не пел.
Ванечка доставал шоколадную коробку с фотографиями и выкладывал все для Андро. “Это мама (умерла два года назад), это дом, где я вырос (продали, есть было нечего), это собака моя, Дружок (под машину попала), а здесь, третий слева, – мой отец. Видишь, высокий, как ты, а я вот коротким вышел”. Наташа Черная все объяснила Ванечке – о чем можно говорить с Андро, а о чем нет. Но Ванечка не выдерживал. Его прорывало.
– Хочешь, – кричал он, – я тебе ее приведу, я ее из-под земли достану! Ух, Екатерина!
Андро вставал молча и шел к двери.
– Ну вот, – обижался Ванечка, – опять…
Андро носил кораблики в подвал, в комнату профессора Дюбе. Он часами слушал, как брат играет. А разве то, что выделывал на пианино хозяин дома, можно слушать? Иногда профессор Дюбе бросал свои пустые занятия и разговаривал с Андро. Наташа Черная становилась под дверь, обнимала метлу и превращалась в слух.