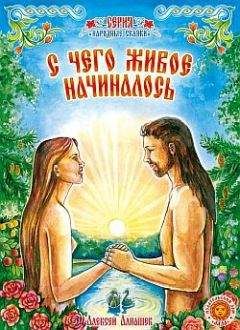Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Это была одна из тех былых киевских зим, когда деревья в парках стояли, точно белые кораллы, когда заметало так, что задремавший в тепле своей каморки дворник не мог быстро отворить ворота припозднившимся жильцам, когда по Андреевскому спуску катались на санях, и шли туда со всех окрестных улиц, и разбивались там в кровь, не вписавшись в первый же поворот, и расхристанные, довольные шумно брели домой. Левобережье и прочую Украину – гоголевскую, волшебную – заносило так, что рыли ходы от дома к дому, что утром в хатах темно было от снега, полностью залепившего оконца. Колобка на горки, которыми изобилует стоящий на семи холмах Киев, не пускали. Варвара Павловна ходила с ним в парк любоваться «причудами природы», замерзшими фонтанами и пронзительно алой рябиной, и носила в льняном платочке крошки для птиц. Колобок, плотно закутанный в шарфы и платки, как в поддерживающий корсет, высоко задрав подбородочек, устало смотрел на нее, не выказывая к этим скромным забавам никакого интереса, а потом как-то сорвался вдруг и удрал. Мать его бродила допоздна, тихо причитая, выдувая нервное облачко пара и дотрагиваясь тонкой замерзшей рукой в снятой зачем-то перчатке до прохожих, спрашивала, не видали ли мальчика, и потом, когда Колобок был найден, городовой говорил: «И не стыдно тебе, бабушка вон еле живая стоит». Колобок пристально посмотрел на Варвару Павловну, а она, не высушив слезы, жалобно улыбалась ему, совсем седая, совсем старенькая, и пробурчал, словно пережевывая: «Бабушка…» И так и повелось, что отца с матерью стал он величать бабушкой и дедушкой, а они на это чудачество сперва не обижались, а потом как-то разом привыкли и, что ужасно, друг друга стали называть так же, с удовольствием грассируя, загоняя французское «n» высоко в переносицу – гран ма и гран папа.
Семейная идиллия у Маслещиковых длилась сравнительно недолго – финансовое положение Антона Глебовича серьезно пошатнулось в результате потерянных, по неопытности, векселей и невозвращенных долгов; страна, омраченная проигранной японской войной и растущей силой Старца, дрожала в преддверии больших перемен, зрело что-то… а Варвара Павловна, отжив известный женский ренессанс, вызванный поздней беременностью, разом как-то сдала, словно сдулась. Плохо понимала самые элементарные вопросы, с характерной отвлеченной озабоченной поспешностью бормотала, не дав собеседнику закончить фразу: «Ах да, да конечно, право, ну что ж…» и, теребя шаль на груди, напряженно вглядывалась куда-то в дверной проем, или в окно, словно боясь пропустить Колобковое появление. Выходить с ней в гости и просто на улицу становилось все накладней. Колобок ее открыто стеснялся, а Антон Глебович все чаще проводил вечера в кабинете, в компании тяжелой шестигранной бутыли с золотым вензелем, пробкой шишечкой, а также портрета, во весь рост, австрийского императора Франца Иосифа, родом из той давней беззаботной жизни, когда с шумными визитами приезжали далекие гости. О путешествиях, которые так любили Маслещиковы, пришлось и вовсе забыть. А в былые времена, летом, они езживали к гимназической подруге Варвары Павловны на греческий остров Лесбос, а еще в Италию (Верону и Венецию), откуда привозились очаровательные мильфьори, выставленные теперь в шкафу. Спустя годы, когда от их квартиры на пол-этажа останется лишь одна комната, в которой в 1965-м будет доживать свой век племянница Варвары Павловны, щипанная в свое время Колобком Ирэнь, всех-то сокровищ из той, дореволюционной, довоенной жизни и останется – только эти мильфьори, да лежащие в углу на балконе латунные диски с выступающими зубчиками от музыкальной машины, да неподъемный, из цельного дерева буфет, огромный, как иконостас с царскими вратами, который при всем желании охочих до чужой роскоши невозможно было ни разобрать, ни даже разрубить – над обтекаемой формы дубовым фронтоном с характерной завитушкой в стиле «модерн» так и остались четыре косые зарубки. Да что там говорить – даже теперь, когда коммунальная квартира в доме по улице Пушкинской расселена и приватизирована, буфет там так и стоит до сих пор, в золоте точечных светильников на подвесном потолке, в той дальней комнате, где родился когда-то Колобок и, вырастая, играл стеклянными шариками с непонятно как засунутыми в них цветами, которые перемежались фотографиями венецианских гондол и поросших кипарисами приморских террас с белыми дворцами.
Три раза в неделю к ним приходила девка Маня и приносила свежие молоко, сметану, творог, яйца и иногда запеканку – такую же бесформенную, плотную, румяную, как она сама. Антон Глебович всегда радовался ее приходу (как с городской интеллигентной приветливостью радовался вообще всем гостям) и выступал откуда-то из комнат: тонкий и чуть согнутый, как стручок, с рыжеватым мочалистым чубом, в пенсне, с козлиной профессорской бородкой, и, прихлопнув, потирая руки, говорил не «сметана», а всегда почему-то «семито-хамитана», и Маня косилась на него недоверчиво исподлобья, слыша в этом искажении речи что-то родное, свое, дворовое, но в устах господина профессора звучащее с определенным, неприятным ей подвохом. Для прислуги дом Маслещиковых после рождения Колобка сделался странным местом, нельзя сказать, что неприятным – но бывало, выходя из квартиры не через черный вход, что являлось свидетельством демократичности хозяев, и мешкая в парадных дверях, между которыми, как водилось во многих старых квартирах, образовывалось пространство, равное по ширине небольшому шкафу, и где все юные жители подобных квартир играли в прятки, наступая на хранящиеся там калоши и зонтики, – переживали конфуз. Из того темного полукоридорного пространства между дверями на Маню (и многих других), бывало, выпрыгивал младший Маслещиков – в шелковой рубашке с кружевными манжетами, в бархатных коротких брючках с тирольскими подтяжками и нарисованными чернилами усиками (точно как у того, кто готовился сотрясти мир спустя полвека), и молча, тихо, как хищник на охоте – выверенным движением хватал за зад под юбками.
Вопреки родительским ожиданиям, рисующим разнообразные прогнозы дальнейшей, героической и сумасбродной жизни «младенца» (как величали его даже после совершеннолетия) – младший Маслещиков годам к двадцати резко остепенился и ушел – кто бы мог подумать – в науку, в совершенно неожиданную, лишенную горячих тайн, четко разлинованную ее область, связанную с инженерным конструированием. Кое-что от сумасбродной романтики все-таки осталось, конечно, – но в крупных формах, воплощенное в полете на цеппелине, например, когда родители от волнения чуть с ума не сошли, а ряд мещанских светских дамочек, причем постарше, вспомнив, как много лет назад были щипаемы в коридорном полумраке у Маслещиковых на Пушкинской, смотрели горячо и восторженно, готовые теперь на многое. Но повзрослевший Колобок проявлял к дамам, всем без разбору, противное высокомерие, и о нем пошла даже в некотором роде молва, как о великом авантюристе и загадочном черте из тихого омута. Внешностью он был не обижен – пошел в арийских прадедушек, темно-рыжий, без веснушек, с белой, словно не мужской, кожей (ах, как любила мать целовать его в щеки), пухлыми губами, сложенными в растревоженное полуокругливание, с тонким длинным носом и глазами цвета зеленоватой древесной смолы. Колобковая сущность в плане личных побед и озорства была проста и открыта, как гладко прорисованный чертеж, и, например, от предложений своих молодцеватых увлеченных товарищей слетать на авиетке Колобок отмахивался, – мол, небезопасно. И, совершив ряд никому не известных, маловыразительных любовных пассов, словно списанных под копирку, возмужавший, чуток оплывший от малоподвижного образа жизни и калорийной домашней стряпни, вел образ жизни тихий и оседлый – выбираясь разве что в концерты в Купеческое собрание. В быту, впрочем, слыл новатором и оригиналом в некоторой мере: у Колобка появился один из первых в городе ватерклозет, привезенный из Вены, пользоваться которым домочадцы побаивались. Дело в том, что свои инженерные способности Колобок успешно испытал на сооружении системы труб для этого чуда, и этот новосозданный орган издавал время от времени ужасающие звуки, клокоча и завывая. На стенку в прихожей повешен был телефон – с деревянной ручкой. У Колобка имелся также импермеабль – прорезиненный плащ, а еще самопишущее золотое перо и печатная машинка «Мерседес-Селекта». Колобок презирал венский шик в одежде и одевался строго, но дорого, в английском стиле – в твид и фланель, волосы носил по новой моде – намного длинней, чем принято, так, что золотисто-медовая прядь, падая на лоб, закрывала косо почти все лицо аж до скулы. Слушал модную музыку – Скрябина, Стравинского, Дебюсси… И зевал тайком. Читал Блока. Хлебникова тоже – но, хотя это скрывал от всех, «не понимал такого…». Знал о Кандинском, уважал его – нужно было уважать, как «самое современное», но у себя в кабинете повесил здоровенную картину Котарбинского «Юная римлянка, идущая к священному источнику с дарами девичества». Такая, несколько пикантная… но в меру.