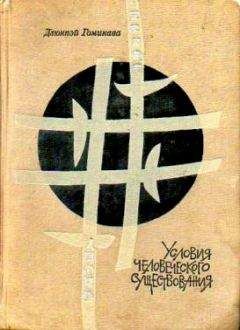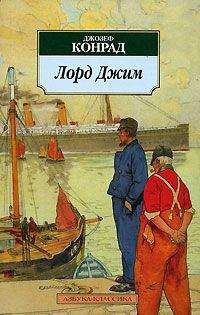Алексей Макушинский - Пароход в Аргентину
Наутро в окне был уже Кёльнский собор; затем пошла Бельгия, в золотом и багряном полыхании осени показавшаяся мне такой прекрасной, какой никогда уже впоследствии не казалась, и поезд тихо, уже никуда не спеша, не раскачиваясь, окончательно распростившись с русской манерой постукивать на стыках рельсов, плыл вдоль каких-то каналов, или вдоль Мааса, уже не помню, с полыхавшими на солнце кирпичными домиками на другом берегу; и на каких-то станциях, где на мгновение мы останавливались, веселые железнодорожные рабочие, все как один сидевшие на скамейках, явно бездельничавшие, или курившие, или поедавшие свои бутерброды, вынимая их из фольги, тоже и в свою очередь поблескивавшей на солнце, кричали стоявшим у вагонных дверей, после въезда в свободный мир тоже как будто подобревшим проводникам, ça va? ça va? – как дела, мол? – и проводники, переглядываясь друг с другом, добродушно-презрительно указывая друг другу на дураков-иностранцев, кричали в ответ: сова, сова, филин, филин… такое удовольствие получая от собственного нехитрого юмора, что один из кричавших оттуда, с той стороны невидимого, уже дырявого, но еще очень железного занавеса, тоже, в конце концов, стал кричать в ответ что-то вроде: philine, philine… полагая, по-видимому, что это по-русски значит: привет, или пока, или, быть может, пошел ты… и менее всего думая, конечно, о незабвенной Филине из «Годов учения», о которой я, невольный свидетель всей сцены, уже не мог не думать в продолжение пути, не только потому, разумеется, что считал в ту пору «Годы учения» самым главным европейским романом и перечитывал постоянно, но прежде всего потому, что и сам еще, в свои тогдашние двадцать восемь лет, на исходе юности, чувствовал себя – не подозревая, что очень скоро перестану себя так чувствовать, – героем «романа воспитания», Вильгельмом Мейстером, отправляющимся в путешествие, на поиски приключений и себя самого, готовым к встрече с любой Филиной, Миньоной, Наталией, с арфистом, Лаэртом и Ярно, участником большого осмысленного движения, в котором все диссонансы, так скажем, обязательно разрешатся когда-нибудь – уже скоро! – всеохватывающей, всеоправдывающей гармонией; и поскольку вагон наш, прицепляемый все к новым и другим поездам, оказался последним, долго, я помню, стоял в заднем тамбуре, глядя на убегавшие, пропадавшие, как бы падавшие куда-то за нами и по-прежнему залитые солнцем холмы, величественно полыхающие леса, сказочный замок и еще один, не менее сказочный; и впоследствии, вернувшись из путешествия, так часто воображал себе, что было бы, если бы я – или кто-нибудь – сбежал и выпрыгнул, к примеру, из поезда, или просто сошел на станции, посреди этого мифологического ландшафта, этой кем-то придуманной Бельгии (начало авантюры, в средневековом и рыцарском смысле; герой, пускающийся на поиски себя и Грааля…), так часто воображал себе все это, что в конце концов, года, наверное, через два, увидел все это во сне, в одном из тех ярчайших, важнейших снов, каких нам немного отпускается за жизнь, каких в моей жизни было, может быть, только два или три, и в этом сне, когда я пытался открыть заднюю дверь, за которой все так же уносились и уносились в небытие мифологические холмы, возник у меня из-за спины проводник, остававшийся во сне таким же безликим, каким был наяву, и вежливо, вкрадчиво попросил меня дверь не трогать, открыть ее у меня все равно не получится, а главное – он, проводник, обязался и, значит, непременно должен довезти меня до, почему-то сказал он, Лютеции, в которую я к тому же и сам ведь хочу попасть, и правильно делаю: Лютеция, сказал проводник моего сна, окончательно переходя на латынь, – величайший и прекраснейший на земле город, Lutetia Parisiorum, сказал и повторил проводник, urbs grandissima atque pulcherrima est.
Глава 2
I have come to the borders of sleep,
The unfathomable deep
Forest where all must lose
Their way, however straight
Or winding, soon or late;
They cannot choose.
Я познакомился с Вивианой на третий или четвертый день моего пребывания в Лютеции; мне кажется, мы с первого взгляда не понравились друг другу. М., мой бесконечно дальний родственник, внук сбежавшего в свое время от большевиков двоюродного брата моей бабушки, свел меня с неким Пьер-Полем, а Пьер-Поль уже с Вивианой; все они занимались, смешно сказать, комиксами, с комической, в самом деле, серьезностью относясь к занятию своему. Пьер-Поль, с которым в день знакомства моего с Вивианой сидели мы в относительно, по парижским меркам, дешевой, шумной и проходной пиццерии на углу, если память меня не подводит, площади Сен-Мишель и набережной des Grands-Augustins, был маленький быстрый бретонец, всегда готовый к отпору, к сарказму, весь жилистый, мускулистый, с красивыми движениями худых узловатых рук; рисовал он своих суперменов, угловатых уродцев и ресницехлопающих красавиц так же быстро, зло, иногда не без блеска; из разговора с ним, из разговоров с другими понял я, что мир комиксов, по-французски называемых рисованной лентой, bande dessiné, или, в сокращении, BD – страсть к снобистским аббревиатурам владела Парижем в ту пору, – что этот дотоле совершенно незнакомый мне мир, поближе познакомиться с коим я, следует признать, не особенно и стремился, что мир этот имеет своих героев, своих гениев, своих святых, подвижников и предателей, своего Шекспира, своего Данте, своего Рафаэля, свои неподражаемые американские образцы и убогие европейские копии, свой авангард и своих консерваторов, своих бунтарей, своих главарей. О каком-то Луиджи с итальянской фамилией говорили они так, словно это был не Луиджи, а Леонардо, и рисовал он не супермена с бэтменом, а Джоконду и Тайную Вечерю; все они, и этот итальянец, с которым я познакомился после, и Пьер-Поль, и Вивиана, и М., жили не только в своем комическом мире бэтменов-суперменов, карикатурных призраков, закованных в броню негодяев, во все стороны палящих из гипертрофированных револьверов, похождений Джека на Марсе и Боба в Стране Сбывшихся Снов, обведенных кружками выкриков, проклятий, объятий, углов и изломов, грозных гримас и ужасных улыбок, фантастических городов и гомерических небоскребов, валящихся прямо на вопящих мышек, или котяток, или древних римлян, почему-то перелетевших в стеклобетонное будущее, не только в этом сказочном и комическом мире жили мои приятели, но вообще в мире, казавшемся мне столь же ненастоящим, как их комиксы и вампиры, мире очень парижском, конечно, но все же странно далеком, или так мне казалось, от того Парижа, который тек, искрился, кричал, шептал и горланил на всех языках этой послевавилонской земли за окнами нашей, например, пиццерии. Этот мир, в котором с упоением жили они, был отчасти мир моды, отчасти мир андеграунда, тоже как бы переходящего в моду. Собственно, причастность к этому миру – вот что, как я вскорости понял, ценилось в нем всего более. Надо было в самую первую очередь быть причастным, быть своим, быть подключенным, включенным, branché, то есть включенным в игру, подключенным к тем незримым и живительным источникам энергии, которые даруются участием в игре и в то же время даруют силы участвовать в ней. Словечко branché, тогда и по-прежнему модное, и означает, собственно, подключение к электрической сети; словечко это было, впрочем, тогда еще модно переворачивать, переставляя в нем слоги, branché превращая в chébrun – страсть не только к аббревиатурам, но и к хулиганской перестановке слогов владела в ту пору Парижем. Получался особенный язык, которому я с удовольствием учился в мой первый парижский приезд, язык, называемый, вернее, сам себя называвший и называющий verlan – перевернутое l’envers («наоборот»). В сущности, это очаровательно, казалось мне, и Верлен где-то рядом… Другое словечко, которому тут же научили меня новые мои приятели, словечко для них необыкновенно важное, было – BCBG, или bécébégé, аббревиатура от bon chic bon genre, что мы (примерно) переведем как «шик и стиль». Все шикарное, все стильное должно быть у счастливчиков, подпадающих под это определение, ботинки от Bally у мужчин и у женщин сумочки от Hermès. Это не совсем то же самое, что branché, хотя одно с другим, разумеется, связано. Быть branché (или даже, черт побери, chébrun) можно с помощью двух или трех шарфов, лихо повязанных один поверх другого (вообще, «Париж – это шарф», по незабываемому определению одной остроумной дамы); для BCBG (bécébégé) требуется уже совсем иная материальная база, которой ни у кого из моих приятелей и приятельниц не было. Вranché они, значит, были; bécébégé быть стремились; так, кажется, и не стали. Все это можно было бы принять, полюбить, если бы не слишком очевидная неискренность, слишком часто проскальзывавшая в их словах и намеках, быстрых взглядах, скрытых улыбках. Им было мучительно важно, кто как одет, кто как себя ведет, кто как ест, кто с кем знаком, кто какие имена называет, но ни за что, ни под какими пытками не признались бы они, что это им важно. Царственную небрежность, равнодушие к мелочам жизни, достойное любого небожителя, аскета или святого, разыгрывали они передо мной и собой, на самом же деле следили за этими мелочами косым, внимательным, недоброжелательным взглядом, так что когда в упомянутой пиццерии на углу набережной и Place Saint-Michel я, отлично справлявшийся до тех пор с советскими серыми макаронами, но не имевший еще ни малейшего опыта по наматыванию на вилку спагетти, сделав опрометчивый заказ, очутился сидящим перед огромной тарелкой этих самых, причем длиннейших, спагетти, плававших в омерзительно-хлюпком и брызгучем помидоровом соусе, Пьер-Поль не только отказался помочь мне добрым советом в деле гастрономической европеизации впервые вырвавшегося на волю бывшего ученика средней общеобразовательной школы номер такой-то, но произнес, с типично французскими, как будто отстраняющими что-то движениями своих красивых жилистых рук, небольшой монолог на тему о ничтожестве всего земного, сам при этом, понятное дело, быстрым, острым, поблескивавшим от наслаждения глазком следя за моими faux-pas, как бы внутренне кивая им и поддакивая, ничего другого, мол, и не ждали мы от русского медведя, ours russe, довольный ими, как все мы бываем довольны, когда ожидания наши оправдываются и надежды сбываются; появление Вивианы положило конец моим мукам.

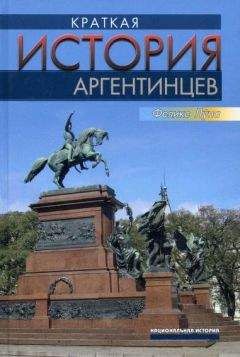
![Нильс Хаген - Охота на викинга [роман]](/uploads/posts/books/126886/126886.jpg)