Татьяна Москвина - Жизнь советской девушки
Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где писал без придумок, с натуры – людей, годы, жизнь. У него есть пассаж про художника Лебедева, который любил самые обычные свои движения сопровождать торжественным «У меня есть такое свойство…».
«У меня есть такое свойство – я терпеть не могу винегрета…»
Ох ты батюшки, свойство у него.
Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно сообщающих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла личные «свойства».
«Я пью только зелёный чай».
«Я плохо сплю в поезде».
«Не люблю печёнку!»
Ну а что, собственно, нам говорят про человека подобные «свойства»? Ничего. Разве что помогают притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, – ладно, заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы гуманисты.
Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.
«Почти не читаю художественной литературы, она меня утомляет, мне скучно».
«Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте».
«Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача – это лучшее, что есть в Москве».
Уже ничего, можно какой-то разговор затеять. Поспорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы, что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить с ним будет трудно.
Но я веду к чему? К тому, что самоопределение через набор свойств – чаще всего маленький Яя-театр. Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!
Поразительно, но многие с этим справляются отлично. (Никто не сообщает только одного – каков его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело с двумя существами: с ним и с его художественным образом.
Крайний вариант такого раздвоения изумительно сыграл актёр Сергей Русскин в роли Иудушки Головлёва («Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлёвы», театр «Русская антреприза имени А. Миронова», Петербург). Иудушка – бездушный выродок, он родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными инстинктами, что-то ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу! Он обирает ближних с неумолимостью насекомого, и при этом слово «бог» не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!
Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри – есть же «объективные показатели».
Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало – вижу немолодую женщину среднего роста, очень крупную, полную, с огромной грудью и животом. При этом у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза зелёные, но многие утверждают, что голубые – странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только за русскую. Лишь однажды – за польку! Помню, как ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что её гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской».
Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее, нормальное русское чудище женского рода.
Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки – ничего…
Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю и называю её Мать – Тьма, великая Тьмать, и моё тело нужно только для поддержки её временных границ.
Она заперта во мне. Она где-то есть в полной мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во мне – она меня создала, и я не могу не отзываться, когда она зовёт.
Тьмать доходит до головы, но там она всевластия уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает, оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы. Там, в голове, неравномерный свет – то блистающий и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать, затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!
А среди борений света и тьмы, кто там поёт и чирикает?
Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет. И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить? И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!
Птица моя капризница – то запечалится вдруг, то развеселится. Но вообще-то она питается радостью и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает – уму непостижимо…
Но кто же здесь я?
А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это хозяйство, да притом в динамическом развитии от нуля до наших дней.
Об этом и расскажет вам мой «биороман».
Буду писать спокойно и просто.
Занавес, занавес, поднимайте занавес – я готова.
Глава первая
Недоношенная
Начало моей жизни было самое ужасное.
Беременность двадцатидвухлетней мамы Киры протекала непросто – она часто падала, причём на живот. Вообще, жизнерадостная выпускница Ленинградского военно-механического института, блиставшая в знаменитой самодеятельной драме Военмеха, только что вышедшая замуж за такого же простофилю, о семейном быте, рождении и воспитании детей подозревала смутно. Вечером, перед ночью моего рождения, мама играла с приятелями в преферанс – надеюсь, хоть это-то прошло у неё удачно.
Мама играла неплохо, знала варианты – «сочинку», «ленинградку». Итак, моё рождение было запланировано на обстоятельный, солидный и праздничный январь – а случилось в невротическом, революционном, «достоевском» ноябре.
Я родилась второго ноября 1958 года в Ленинграде, около часа ночи, даже не семимесячной, а шести месяцев двух недель, в клинике Отто, что на Васильевском острове, и весила один килограмм семьсот граммов. Сразу же после родов меня отправили в «барокамеру» – специальный инкубатор для недоношенных. Этим благородным делом заправляла легендарная женщина, которая, как говорили, «выращивала с девятисот граммов», – и приводили в пример артиста БДТ Михаила Данилова, как именно такого вот, выращенного из ничего.
Действительно, Данилов был убедительным аргументом в пользу цивилизации супротив Тарпейской скалы. Он был круглолицый, умный, вроде бы крепенький, талантливый, острый – но при этом глубоко печальный внутри и словно бы снедаемый тайными болями и недоумениями.
Проходит ли бесследно для крошечных существ эта самая «барокамера»? – размышляла я впоследствии. Там, конечно, тепло и кормят регулярно, однако нет никакого спасительного материнского живота – одиночество, тишина! И в этом одиночестве, затаившись, существо напрягает все жилочки организма, чтоб выжить.
Я часто вспоминала свой инкубатор потом, когда приходилось скрываться, таиться и вылеживать себя после катастроф. В мир не попасть, мир безнадёжно далёк, источники любви не иссякли, но тоже безнадёжно далеко. Вот и лежишь, почти не шевелясь, лишь изредка читая давно знакомую книжку – самого питательного свойства, вроде Чехова или Шварца, – и слушаешь глубины себя: набирает ли там силу светлый сок жизни, или пусто, тихо, темно…
В моём рождении что-то изначально пошло «не так». Какая-то нота неудачи, несчастья, недо… зазвучала над колыбелью. Всё было задумано славно, красиво, на широкую ногу, громкозвучно, победно – и как будто сразу же споткнулось об мир. Да, трубач удержал падающую трубу, дирижёр поймал, накреняясь всем корпусом, руководящую палочку, скрипка взвизгнула, но вывернулась из кикса, и хор, путаясь в партитуре, грянул песню под постепенно обретающий себя оркестр. Однако вместо победного марша явно вышло что-то другое.
В барокамере я пролежала почти месяц. Выглядела неважно. Папа, увидев меня, огорчился и сказал – ой, какая лягушечка, чем злостно обидел маму. Папа же обижать маму совсем не хотел, а искренне испугался за порожденную плоть.
Родилась в больнице дочка,
Чистый вес – кило семьсот…
Попадёт ли в коммунизм
Этот хрупкий организм?
Это всё, что я запомнила из папиного стиха, а он любил сочинять «на случай», но главная шутка осталась в семейных преданиях навечно.
В коммунизм этот хрупкий организм не попал, как выяснилось.
Организм был этапирован в дом № 70 по Семнадцатой линии Васильевского острова, где, в квартире № 29, в единственной, но большой комнате (27 метров), вместе с маминой мамой, бабушкой Антониной, проживала молодая семья выпускников Военмеха – Киралина Идельевна Москвина и Владимир Евгеньевич Москвин.
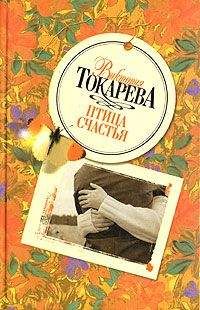
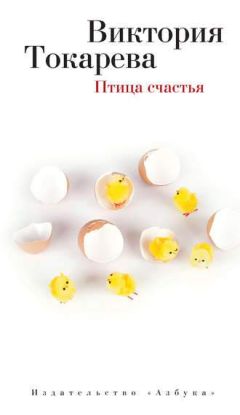
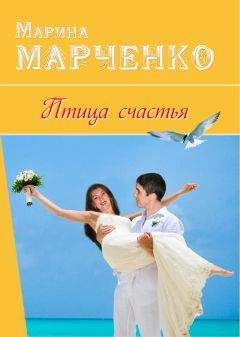
![Конни Мейсон - Птица счастья [Птица страсти]](/uploads/posts/books/18097/18097.jpg)
