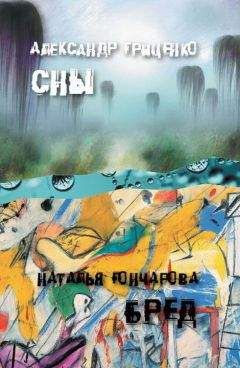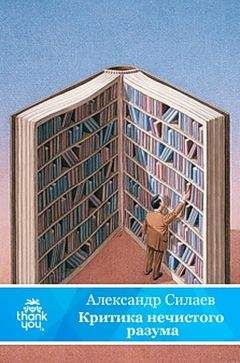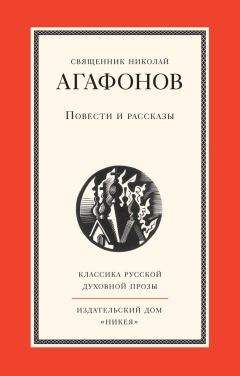Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
Человека целитель опознал сразу. Перед ним сидел на корточках в одной нательной рубахе бывший «Хозяин» и, не боясь сорокаградусного мороза, сосредоточенно портил будущую ТЭЦ. Рядом с аспидом вдоль стен и там, и сям прилежно трудилась целая диверсионная группа из десяти-пятнадцати призраков, выполняя такие же загадочные действия.
– Михалыч, – по-человечески опешил Хирург, будто это был не прежний злодей, а его родной дядя. – Ты зачем тут… Опять совершаешь?
– Чудновского помнишь? – спросил, не оборачиваясь, «Хозяин». – Станислава Николаевича. Мы его здесь кончали. Возле этой стенки. Чудновского с товарищами. Видишь, пульки застряли.
С этими словами бывший начальник лагеря действительно выковырял из стены пулю, и она, превратившись в синюю бабочку, стала порхать над ним, излучая слабое фосфорическое свечение.
Хирург поднял голову и увидел множество таких же мерцающих насекомых, безмятежно реявших над серым склепом недостроенного корпуса. Это было похоже на сон, на какое-то далекое кино. Но более всего Хирурга опалило то, что из каждой, очерченной белым, плиты шлакоблока за работающей бригадой приведений строго наблюдала живая пара внимательных человеческих глаз.
Через мгновение целитель пришел в себя, но справить нужду в этом месте не решился, так как поверил в обнаруженный десант больше, чем верил настоящей реальности, каковая уже давно не укладывалась ни в какие рамки нормального понимания.
Другой случай заставил Хирурга убедиться в том, что все происходящее вокруг – только зыбкая сфера, некая жуткая изнанка истинного существования, искаженным отражением которого в виде дикого абсурда и является его жизнь, как, впрочем, и жизнь всех остальных лагерных обитателей.
К примеру, в лагере трудился, неся свой крест, некий заключенный, Семен Ефимович Воронцов, по отцу – Фронт. Подтверждая боевую фамилию, Семен Ефимович добровольно участвовал в войне, хотя для этого ему пришлось оставить кафедру Московского университета. Он прекрасно владел двенадцатью языками, несколько знал просто хорошо и многие понимал внутренним чутьем.
Благодаря удивительным лингвистическим способностям, в армии Семен Ефимович немедленно возглавил интернациональное ядро, а вскоре был назначен командиром батальонной разведки. И вот тут господин случай сыграл с ним злую шутку.
Однажды, хватанув после удачного боя с дивизионным командиром спирта за будущие победы, Воронцов, никогда не пивший водки, получил затмение, которое рассеялось в немецком блиндаже. Еще не придя в себя, Семен Ефимович крепко обижался на незнакомых людей, используя новый военный язык, какой он постиг на войне. Очнувшись, Семен Ефимович перестал ругаться и поразил фашистов редким знанием в первоисточниках Шиллера и Еете на немецком. В тот момент его спасли три обстоятельства. Во-первых, будучи полукровкой, он относился к евреям, внешне на евреев совершенно не похожим. Во-вторых, Семен Ефимович носил благородную фамилию матери и по документам значился как старший лейтенант Воронцов. В-третьих, командир советской разведки, конечно, вызвал у врага несомненный интерес по всем статьям, и немец решил немедленно отправить задержанного в штаб. Однако мотоцикл, на котором двое автоматчиков повезли самовольно явившегося в нетрезвом состоянии красного бойца, нечаянно налетел на свою же мину, оставив в живых только Семена Ефимовича.
Вот с такой подпорченной репутацией и небольшим ранением плеча Сеня Воронцов-Фронт доставился в родной батальон.
Пристально рассмотрев проступок Семена Ефимовича и исследовав имевшиеся до войны места командировок в Париж, Дрезден и Варшаву для изучения произведений искусств, суд покарал гражданина Воронцова всеобщим презрением и назначил ему, как врагу народа, заслуженную трудовую вахту на ближайшие двадцать лет.
Семен Ефимович плакал на суде и предлагал во искупление собственную кровь. Но кровь его никому не понадобилась, так как Воронцова требовалось перековать.
После путешествий по бескрайним просторам России и пересыльным тюрьмам Семен, занимавшийся на воле западным искусством, неожиданно полюбил русский народ. Полюбил его самобытную культуру, своеобразный уникальный язык, традиции, шутки, поговорки и даже незлобный матерок.
Но особенно возлюбил Семен Ефимович великого вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина.
В то время когда глаза колонны, топавшей на работу, источали тоску и уныние, Сеня Воронцов лучился какой-то загадочной полуулыбкой, сопровождаемой шевелением губ, что означало рождение новой оды вождю.
Благодаря феноменальной памяти, Семен своих стихов никуда не записывал и знал все наизусть. Оды его были так длинны, что его никто не мог дослушать до конца, поскольку у заключенных для подобных занятий не хватало ни времени, ни сил, ни желания. К тому же Сенины оды, сочинявшиеся им с тех пор, как он слегка пошатнулся умом, пахли столь приторно сладко, отдавали такой помпезностью и вместе с тем раболепием, что трудно было представить, как сей человек когда-то занимался высокой, по большому счету, литературой.
Ежедневно Семен наливался звонкими стихами, словно неким духовным веществом, которое распирало его изнутри. Тогда он время от времени не выдерживал внутреннего поэтического давления, выставлялся перед отбоем всей своей тощей фигурой посреди барака, растопырив ноги в драных вонючих обмотках, и начинал долгую, заунывную аллилуйю Сталину. Других произведений он в лагере не писал.
Сошлись коммунары под сенью Кремля, – читал Семен, вздымая костлявые кисти к черному потолку.
– В Москву их послала родная земля.
На славной трибуне наш друг и отец,
Наш Сталин великий, отрада сердец.
И плещут ладони, и возгласов гром,
И души раскрыты пред ясным вождем.
Ему свое сердце народ отдает,
И Сталин – Великий, как солнца Восход.
Он радость для сердца, он свет для души
Правдивые речи его хороши.
И жду с нетерпеньем счастливого дня,
Когда в члены партии примут меня.
Предан наш народ Отчизне,
Дорога ему держава.
Сталину, творцу бессмертной жизни, —
Слава! Слава! Слава!
И это бывало только началом, только запевом к бесконечной, напудренной и разукрашенной песне, уходившей в стынь глубокой ночи, в храп и стоны зэков.
Поэта Воронцова вызывали даже к начальству и там учиняли ему экзамен на предмет выявления в стихах крамолы. Но все бессмертные творения Семена были настолько идиотически искренним панегириком вождю, что командующие лагерным наказанием отступали в тыл.
– Вот ты говоришь: «Когда в члены партии примут меня»… – пытал Семена начальник режима и задал роковой вопрос: – А ты хоть понимаешь, что такое коммунисты?
– Коммунистом можно стать лишь тогда, – смело ответствовал испытуемый, – когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
– Это почему? – морщили лбы экзаменаторы.
– Ленин.
– Что Ленин?
– Так говорил в своих сочинениях Владимир Ильич Ленин.
– Гм, – сказал начальник режима, глядя в бумажки на столе. – Значит, ты читал Ленина?
– Так точно! – радостно, по-военному докладывал Семен.
– Какие же ты знаешь сочинения?
– «Империализм и эмпириокритицизм», «Лучше меньше да лучше», «Как нам реорганизовать рабкрин»… еще?
– Ладно, – удовлетворялось начальство. – Иди. Но смотри, твою мать, чтоб это… чтоб не дай бог там что-нибудь… Понял?
– Так точно, – успокоил начальство Семен.
Заключенные, правда, не противились Сениным излияниям: под их монотонную мелодию легче засыпалось. Впрочем, была и другая причина. Однажды некто Панюшин, отбывавший наказание за то, что оставшись во время одного из боев в орудийном расчете один, как ни старался, будучи раненым, не смог вытащить пушку из болота, а потеряв сознание так же, как и Семен, попал в плен. Бежал, был пойман, изорван собаками. Но лишь только поправился, бежал снова, пересек линию фронта и рыдал, словно ребенок, на плече первого, встретившего Панюшина, красноармейца.
Рыдая в гимнастерку русского бойца, капитан Панюшин думал, что самое страшное позади, главное – он среди своих. Но свои оказались разными. В НКВД посчитали, что будет правильнее, если этот самый капитан прочувствует свою вину где-нибудь на Колыме, тем более манеры и тон подсудимого солдата выплескивались за рамки чинопочитания. Рваные раны от собачьих клыков и осколочное ранение не доказывали судьям факта пожертвования Панюшиным в пользу Родины последней капли крови.
В лагере Панюшин был замкнутым, угрюмым человеком, редко произносившим что-либо. И вдруг среди ночи, как гром, прозвучал его голос.
– Заткнись, падаль! – резко выкрикнул Иван Панюшин. – И умолкни вместе со своим Сталиным.
Утром начальник отряда, человек, имевший на лбу волосы до самых бровей, хрипло перечитал список вверенных ему заключенных, но на фамилии Панюшин запнулся и, достав карандаш, жирно вычеркнул с ехидной ухмылкой его в своем кондуите.