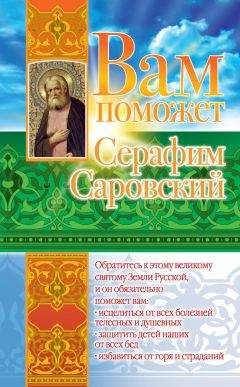Натиг Расулзаде - Записки самоубийцы
Мне показалось, что я ослышался.
…Болван, это же наш человек! С самого начала мы приставили ее к тебе, чтобы следила и подстраховывала тебя, потому что не очень поначалу тебе доверяли, а туда, к ней тебя должны были часто посылать. Жениться он, собрался, фраер!..
Я, кажется, даже дышать забыл, прислушиваясь к крику Нагиева, меня будто кипятком обдали и я еще сгоряча не очень чувствовал боль.
…Да на ней пробу негде ставить, все наши ее перепробовали. Она тебе, дураку, сказала, что беременна, чтобы ты по-прежнему продолжал курсировать туда и обратно, привязать тебя, дура, к себе хотела, вот и брякнула первое, что в ее идиотскую голову пришло. Подсмотрела ночью, как ты товар вскрывал и запаниковала, чтобы ты не намылился. Нет посыльного в Ереван – нет ей и заработков от нас, понял ты?! Вот и сказала, что ждет ребенка. Откуда она знала, что тебя посетит такая блестящая мысль?! Жениться он собрался на этой армянской прошмандовке!
Я стоял оглушенный, пока не воспринимая ничего отчетливо, но уже чувствуя и зная, что произошло что-то страшное в моей жизни, катастрофа.
…Она, как ты уехал, тут же позвонила мне и все доложила. Что ты уехал радостный, что она обманула тебя, чтобы крепче привязать к себе. Если б ты не стал брыкаться, я бы ничего тебе не сказал. Но сейчас тебе уходить нельзя от нас, невозможно, пойми!.. Ребенок у них будет! Ха-ха! Да если хочешь знать, эта тварь уже десятую спираль меняет!..
Слова Нагиева постепенно доходили до меня, и когда смысл этих слов обжег мне сердце, я, кажется, заорал и набросился на него. Мы повалились на ковер, опрокинули стол, еще что-то, душили друг друга, рвали зубами, били друг друга головами, ногами. Я убил бы его, я ничего не соображал, был взбешен и уничтожен одновременно, я не помнил себя и не понимал, что делаю, одно только знал – надо убить его, оскорбившего, оплевавшего, растоптавшего самое дорогое для меня, самое сейчас единственное, ради чего я не пожалел бы жизни. Нагиев, поняв, что я убью его, сопротивлялся отчаянно, с утроенными силами человека, цеплявшегося за жизнь уходящую. Наконец, ему удалось ударить меня по затылку чем-то тяжелым, и я, почти теряя сознание, но охваченный новой волной злости, что, видно, придало мне свежих сил всего лишь на несколько мгновений, схватил его за волосы и два раза подряд ударил его голову о выступающий мраморный угол камина. Я отключился только убедившись, что и он потерял сознание. Очнулся я, кажется, почти сразу же, может, через несколько минут. Я лежал, уткнувшись лицом в лужу пролитого и всосавшегося в ковер коньяка, наверно, это и помогло мне скоро очнуться. Рядом лежал Нагиев. Я с трудом поднялся на ноги и, держась за стены, шатаясь, пошел в ванную, открыл кран и подставил трещавшую от боли голову под мощную струю холодной воды. Рана на затылке, я ее пощупал, была незначительной, я вдруг непонятно отчего, подумал, что когда стреляешься, стреляешь себе в рот, вот здесь, где у меня рана, должна вылететь пуля. Может, подумал я это оттого, что один из наших в Афгане, с расстроенной психикой, так стрелялся из автомата, я потом видел труп. Или же потому, что вообще людям в критические ситуации порой приходят в голову странные, далекие от реальных дел, совершенно несвязанные с сегодняшним днем, мысли? Я еще раз тщательно промыл и попробовал рану на ощупь. Скорее всего, была содрана кожа, немного крови запеклось в волосах, но я смыл ее, и, отдышавшись, с гудящей, как котел головой, вернулся в комнату. Нагиев лежал без сознания. Я послушал у него сердце, оно билось вполне отчетливо. Я принес из ванной и плеснул ему в лицо кружку воды. Уходя, я услышал из комнаты протяжный, тихий стон Нагиева. Я захлопнул за собой дверь.
Я был, как во сне и все остальное помню, как сквозь дрему. Помню, я поехал домой, умылся, как мог успокоил встревожившуюся при виде меня маму – я, наверно, выглядел ужасно, но мне не пришло в голову хотя бы взглянуть на себя в зеркало – переоделся, сказал маме, чтобы не беспокоилась, я скоро вернусь, и поехал на такси в кассы аэрофлота. Там только я обнаружил, что при мне нет паспорта. Домой возвращаться не хотелось, голова трещала, я плохо еще соображал, помню, в голове навязчиво вертелась мысль, что возвращаться – плохая примета, может, потому, и не поехал за паспортом?.. И вообще, я ни о чем не мог думать, кроме того, что должен, должен сейчас же, должен немедленно, должен приехать к Карине, поговорить с ней, чтобы все разъяснилось, иначе я с ума сойду. В голове вертелись и все отчетливее вспоминались слова Нагиева, и каждое из них было мне, как нож в сердце. Мало, что соображая, как пьяный, я приехал на железнодорожный вокзал, подошел к кассе, мне повезло и я довольно равнодушно отметил это про себя: кассир, услугами которого я несколько раз пользовался, оказался в этой смене. Я ему сказал, что мне срочно нужен билет до Еревана. Он помолчал, подозрительно оглядев меня, но я не придал этому значения, не до его подозрительных взглядов мне теперь было – в голове вертелся мой будущий разговор с Кариной – да и выглядел я так, что вполне мог бы возбуждать подозрительные взгляды посторонних. Разговор с Кариной… Ясное дело, и чем дальше и рассудительнее я начинал думать, тем это становилось яснее: Нагиев не врал, что он мог знать о наших с ней отношениях? Никогда бы он не узнал таких подробностей, если б кто-нибудь из нас двоих ему не рассказал. Но опять же я отбрасывал от себя эти жуткие мысли, не хотел верить, тому что услышал от этого ублюдка, несмотря на всю очевидность доводов Нагиева, что Карина, что она… Что она – их человек. Кассир попросил меня подойти через час, я, наконец, услышал, что он говорит, увидел его удивленное лицо и в рассеянии отошел от кассы. Я просидел час в зале ожидания, все стараясь избавиться от убийственных, уничтожающих меня мыслей о Карине, о том, что если все, что я услышал – правда (правда! А чем это еще могло быть?!), то как долго и умело она лгала мне, как мастерски играла свою неприглядную роль (тут я даже вспомнил детали: что, например, ни разу за все наше знакомство не видел у нее дома ни одного учебника, или тетради, хоть она и утверждала, что учится в университете, вот уж в самом деле, насколько же можно быть ослепленным чувством!), как врала она мне, врала на каждом шагу, созваниваясь за моей спиной с Нагиевым и докладывая ему о каждом моем шаге, меня всего трясло, когда я об этом думал, но я любил ее, любил по-настоящему, и потому снова и снова отталкивал от себя эти жуткие мысли, но они так же снова и снова заползали мне в голову как змеи, и уложившись в мозгу, жгли, как кровавые раны, жгли, терзали, не давали дохнуть. Наконец, я довел себя до такого изнеможения, что у меня закружилась голова, боль от нагиевского удара в которой до сих пор не утихала. Наверно, у меня было какое-то дикое выражение лица, потому, что, несмотря на крайнюю мою рассеянность, я не раз замечал на себе любопытные взгляды окружающих. Или может, я разговаривал вслух сам с собой, или жестикулировал? Могло быть… Наконец, час прошел и я направился к кассе знакомого кассира. Он протянул мне билет, я расплатился и пошел машинально на перрон, хотя до рейса ждать оставалось еще больше семи часов. Когда я это сообразил, я чуть не взвыл от досады, вдруг запоздало вспомнив, что рейс на самом деле через семь часов и я мог бы уже давно усвоить это. Тут мне снова вспомнилась Карина, хотя ни на секунду я не мог забыть ее по-настоящему, так, чтобы мой раскаленный мозг мог бы хоть немного отдохнуть. Я вошел опять в зал ожидания и тут, помню, на миг снова возникла мысль поехать сейчас домой за паспортом, и может тогда, удастся улететь скорее; но у меня уже не оставалось никаких сил, да и напрягшись и постаравшись подумать спокойно, я решил, что не стоило шило на мыло менять, есть уже билет, ну и ладно. Я повалился в пустующее кресло в зале ожидания и тут же впал в какое-то полузабытье, в котором сон смешался с реальностью, с проходившими мимо людьми, с обрывками их фраз, с воспоминаниями о Карине, со жгучей болью в затылке, со встающей перед глазами сценой драки с пьяным Нагиевым. Время от времени, напоровшись на мысль о Карине, я от пронзительной боли в груди, будто возвращался в реальный мир, таращил глаза на людей вокруг, пялился на стены зала ожидания, потом от бессилия вновь впадал в свое странное состояние и грезил наяву, и бодрствовал во сне, пребывая на грани между страшным сном и горькой явью. Теперь вспоминаю, записываю все это в поезде, рука дрожит, зачем это делаю, не знаю, сейчас эти записи вовсе не помогают мне успокоиться, или взять себя в руки, или по философски поглядеть на случившееся со мной, но я все же пишу, может, когда-нибудь я прочитаю эти записки совсем с другим чувством, но сейчас слишком еще свежа боль, слишком…
Так я просидел все семь часов в зале ожидания и, обнаружив, что уже пора, пошел, шатаясь от усталости и слабости в туалет, вонь которого немного вернула меня к действительности, умылся и вышел на перрон, куда подали уже ереванский поезд. Поезд тронулся, и я только через несколько часов обнаружил, что сижу один в купе, и даже немного обрадовался этому, если только в моем состоянии можно было чему-то радоваться. Я снова и снова вспоминал слова Нагиева, вспоминал, как слишком легко она познакомилась со мной вот в этом же поезде примерно полгода назад, хоть я и инвалид, и одна только эта легкость должна была меня насторожить, а я уши развесил, про Афган ей травил, вспомнил, как она поделилась со мной яблоком… Эти запоздалые мысли жгли меня, пытали, мучали, истязали…