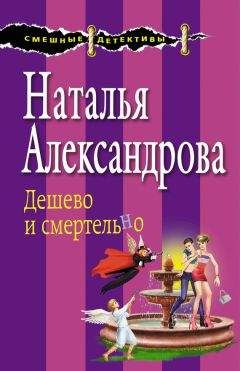Надежда Беленькая - Рыбы молчат по-испански
И главное, Нина не могла понять романтики Крайнего Севера, в который мать была влюблена.
Вертолет доставлял членов экспедиции на дикий пустынный берег в устье реки Колымы или Яны, где стоял крошечный домик – балок.
В балке мать жила два месяца.
Природа тундры оживала только летом, да и то всего на несколько недель. Ночь исчезала вовсе, и над тундрой круглосуточно стоял бледный полярный день. Тундру покрывали цветы – мелкие ромашки и крошечные маки с жалобно трепещущими лепестками. Рассматривая фотографии, Нина не верила своим глазам: мрачная равнина – бурая пустыня, если смотреть с самолета – весной превращалась в цветущую степь. Как мало нужно земле, чтобы проснуться и разбудить дремлющее семя – немного бледного, почти не греющего солнца и скупые десять градусов тепла… Но даже летом почти все дни было пасмурно, сыро, стоял «бус» – так называли местные жители смесь тумана и дождя. Зато в редкие часы, когда туман рассеивался и выходило солнце, тундра преображалась. Небо становилось высоким, оглушительно синим, и на земле вспыхивали сотни крошечных озер из тающего льда. Однажды мать сфотографировала летнюю тундру с вертолета. На зеленом фоне сверкали голубые с золотом зеркала: тундра проснулась и открыла глаза, ясные и чистые.
Этот снимок мать вставила в рамку и повесила над письменным столом.
Однажды мать привезла в подарок Нине кусочек золота. Настоящий самородок, сверкающая капля солнца величиной с виноградину – мать нашла его на берегу реки Яны: что-то блеснуло в густой серой грязи, в которой сапоги увязали по щиколотку, Зоя Алексеевна нагнулась и подняла. Золото по закону полагалось немедленно сдавать государству, но мать государство обманула и увезла самородок с собой в Москву, в подарок дочери. Государство ни при чем: такие сокровища, по местным верованиям, сам Север дарит тому, кто пришелся ему по нраву.
Капля колымского солнца так и осталась лежать в Нининой шкатулке: любить золото, носить золотые украшения считалось у бывалых северян дурным тоном, и Нина с детства усвоила это правило, как накрепко усвоила знания о севере, которые ей передавала мать.
– Мам, зачем тебе Колыма? – как-то раз не удержалась Нина.
Сахалин, Камчатка и даже Чукотка – любые дальние окраины России, где тоже водились морские млекопитающие, казались ей намного привлекательнее гиблых мест, к которым мать неизвестно почему особенно привязалась.
– Люди оттуда бегут, а ты о ней мечтаешь. И вообще, зачем тебе тюлени? Звери в лесу, они же намного симпатичнее. Почему ты их не выбрала? Какая разница, чьи голоса записывать? Если бы ты восхищалась тайгой, я бы еще поняла. А эта твоя река Яна? Сама говоришь, полметра земли, а дальше вечная мерзлота. Холодильник покупать не надо.
– Тайга – удивительное место, – соглашалась мать. – Но видишь ли, она как бы на любой вкус: красива и всем понятна. А Колыма – она не для всех. В нее надо вжиться, это не каждому дано. Если в один прекрасный день почувствуешь нежность к Колыме, то это уже навсегда.
Фотографии, которые показывала мать, и удивительные истории, которые Нина слушала с детства, пробуждали в ней пронзительную, очень глубокую ностальгию. Но давать волю этой ностальгии она не собиралась. С ранних лет Нина ревновала родителей к северу: поездки на север были для них гораздо важнее маленькой Нины, которая неизменно оставалась на втором плане – позади диссертаций, научных статей, дальних перелетов и акустических приборов.
По мнению матери, человек должен целиком отдать себя важному делу, которое он однажды назвал своим. Измену этому делу с другими, менее значительными делами, не связанными с главным, а иногда его оттесняющими, она считала преступлением.
И потому советоваться с матерью о том, как лучше соединить кафедру и диссертацию с Рогожиным, не имело смысла. Такие разговоры могли кончится очередной вспышкой взаимного раздражения.
* * *Миновала зима, наступила студеная облачная весна.
Светлело с каждым днем все раньше: когда Нина просыпалась, за окном уже стояло бледное утро. Деревья во дворе загораживал туман. Где-то тоненьким голосом пела птица – она пела на очень высокой ноте, как будто звенит колокольчик, и казалось, что голос прилетает с неба.
Конец марта выдался теплым, сырым, но на весну не походил – слишком тоскливо каркали вороны, да и пахло не весной, а размокшей грязью и всплывшим повсюду собачьим дерьмом.
Потом снова грянули морозы, завыли метели. Снег сошел только к концу апреля.
Несколько месяцев подряд, до самого июля, Нина ездила в Рогожин каждые две недели. Такой график ее вполне устраивал. Сначала она переносила и заменяла занятия, и ей приходилось туго, зато потом кафедральное начальство внезапно пошло навстречу: поездки в Рогожин выпадали на понедельник и вторник, а Нинины преподавательские часы – на среду, четверг и субботу. Времени почти не оставалось, зато регулярно, дважды в месяц Нина получала двести евро за Рогожин и один раз пятьсот за переговоры с испанской стороной, и ей наконец удалось отказаться от опостылевших частных учеников. Но главное, сами поездки нравились ей все больше: к своему удивлению, Нина привязалась к Рогожину.
В начале лета город расцвел, похорошел и, несмотря на пыль и скверные дороги, уже казался Нине родным.
Старая часть Рогожина, застроенная двухэтажными домами с каменным первым этажом и деревянным вторым, с резными ставнями и крылечками, печально доживала свой век. Узкие улицы были засажены высоченными липами, под их тяжелыми ветвями даже в летний зной стояли прохлада и тень. Машин почти не было, зато ходили трамваи – ржавые и звонкие, как консервные банки. Нина подолгу гуляла среди старых домов, рассматривала покосившиеся сараи, сгнившие скамейки, косматые вороньи гнезда в высоких ветлах и тополях и представляла, что и она когда-то давно – так давно, что и вспомнить как следует не удавалось, – жила на одной из этих улиц, в одном из старых русских домов, и выходила утром в сад, полный одичалых яблонь, и грохот трамваев радовал, а не раздражал, потому что кроме этого грохота ни единый звук не нарушал старинную тишину.
Нина движется по одной улице, сворачивает на другую, идет вдоль позеленевших стен, мимо кладбища, куда столько раз хотела, но все не решалась зайти, мимо зарослей бузины и мусорных пустырей, представляя, как люди жили на этих улицах в прежние времена, как они выглядели, эти люди, и как выглядели их дома. Нине приходит в голову, что город упорно разворачивается к ней затрапезной изнанкой, но если поискать еще чуть-чуть, рано или поздно непременно обнаружится другая, парадная сторона. Но кончается одна улица, за ней тянется другая, а парадной стороны почему-то все нет. Нина уже опасается, что улицы бесконечны и она не выберется из них никогда… Но вот центр уже позади, а дальше виднеется рынок под открытым небом, где можно дешево купить яблоки, огурцы, молоко и сметану и пестрое постельное белье. Внушительных размеров лифчики раскачивает ветер, а за рынком город кончается, вместо старых домов – безобразные гаражи и блочные пятиэтажки.
Имелись в Рогожине и настоящие достопримечательности. Был кремль, обнесенный рассыпающейся кирпичной стеной. Встречались красивые, с историей, купеческие дома. Чуть живые церкви, заросшие полынью до потемневших крестов. На куполе одной церкви Нина обнаружила настоящую березу. Береза была высокой, стройной и как ни в чем не бывало раскачивалась на ветру, будто стояла в чистом поле, а не на крыше памятника архитектуры в историческом центре города.
Однажды Нина узнала, что если сесть на трамвай, вскоре окажешься на окраине, где город неожиданно обрывается, отступает назад кирпичными пятиэтажками, огородами и завалившимися сараями и безо всякого пригорода переходит в загород – редкий лесок и поля, по которым течет, плавно изгибаясь, заросшая кустами и осокой речка, а если хорошо поискать, на одном из ее изгибов среди кустов и осоки можно обнаружить белый и чистый песчаный пляж.
Нина догадывалась, что пройдет несколько лет и провинциальное очарование Рогожина исчезнет, и будет что-то совсем другое, и потому жадно запоминала, мысленно зарисовывала каждую примету.
Вот она заходит в книжный магазин на старой улочке, стоит у прилавка, выбирает книжки. Внезапно пищит телефон – Ксения звонит по делу. Говорит Ксения быстро, слышно ее плохо. От напряжения Нина щурит глаза, крепко прижимает трубку к уху, прикладывает ко рту ладонь, загораживая телефон, и переспрашивает: «Что? Скажи еще раз! Где-где?». Пожилая продавщица смотрит на Нину, единственного покупателя, гневно, осуждающе: «Сколько можно трещать? Выйдете на улицу – там и трещите. Надоели уже. Голова от вас болит». Поначалу опешив, Нина не сердится, не огрызается, как положено по сценарию: наоборот, она чувствует прилив пронзительной жалости и любви и к этой сердитой продавщице, и к ее магазину в старинном рассыпающемся доме, из окон которого видна обледенелая река и местный неказистый кремль. «Простите, – бормочет Нина, пряча телефон. – Понимаете, взяли и позвонили. Разговор очень срочный».