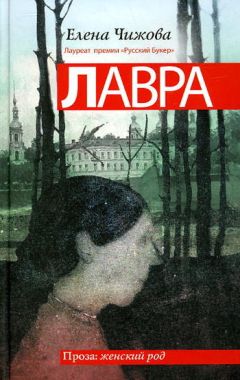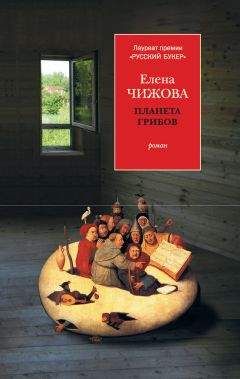Елена Чижова - Неприкаянный дом (сборник)
– Да какой, – отвечает, – аппетит – в мои-то годы…
– Ох, – Николай головой покрутил, – вкусные блинки. В наших краях на обед не пекут. Глупый народ, суеверный – блины, говорят, на поминки.
– В деревне-то, – отвечаю, – конечно. У нас тоже – на поминки. В городе – другое дело. Обычаи не соблюдают.
– Вот, значит, – обращается, – Евдокия Тимофеевна. Хорошую дочь вырастили. Работящая, скромная, на производстве ее уважают. Я вот тоже…
Батюшки, сообразила. Он же за матерь ее почитает. На Евдокию покосилась. Кивает. Молчит. Ну и ладно. Оно и лучше. Чего зря болтать… Я других-то – по имени-отчеству, а к ней – так, без имени: вы да вы.
– Этот-то парень, который молчал, когда уж говорить начал, забыл, что раньше было – ну, пока немой. И взрослый уж вроде, а напрочь из головы вылетело. Вот я и думаю: неужто немота действует? Пока молчишь – и памяти нету?.. Наверное, ведь так… Ох, – вспомнил, – дразнили его потом: «Ну-ка, Минька, расскажи, как тебя раскулачили? Помнишь?» Озлится весь: не было, орет, этого, не было! Не помню! Середняки мы. Так и дразнили его – Середняк.
– А вы, – Евдокия не утерпела, – из бедняков, видать?
– Мы-то – да, – подтверждает, – отец мой из первых записался.
– А чего ж, – спрашивает, – сами в колхозе не остались? Как бы хорошо…
Ариадна глянула коротко – головой покачала.
– Да чего ж, – нахмурился, – хорошего… В городе-то лучше. Вон Петр соседский в армии отслужил – в Москву подался. Приехал. Подарков навез: матери – ситцу, платок еще. Туфли сестре. Хвастал: комната, мол, своя. Зарплату дают деньгами. Мать послушала-послушала, а мне как раз в армию идти… Ладно, – брови сдвинул, – болтаю больно… Давайте за здоровье ваше выпьем: долго живите, не болейте. И чтобы дети ваши здоровыми были да вас радовали.
Евдокия прямо смотрит.
– Хороший тост, – говорит. – Грех за него не выпить.
Николай выпил, отставил аккуратненько. Другие-то не стали. Гликерия одна пригубила.
– Ой, – я-то хватилась, – пойду блинков ей отнесу – обещала.
Сюзанночка юлой забавляется. Крутит-вертит, лошадка так и бежит. Пригляделась я, надо же: хитро придумали – лошадка эта еще и скачет, вроде по кочкам.
– Ну, – спрашиваю, – понравился подарок?
Глянула на меня: глазки востренькие, понятливые. Неужто, думаю, и про юлу эту не вспомнит? Ну и пусть не помнит – лишь бы заговорила…Покушали. Николай поднялся.
– Спасибо, – благодарит, – хозяюшка. Все очень вкусное. Может, комнату свою покажешь – поглядеть.
Евдокия губы поджала:
– Так ребенок там. После обеда спать ложится. Вы уж тут, в кухне побеседуйте. А мы пойдем – тоже приляжем.Посуду убрала – села к столу. – Да, – Николай говорит, – мамаша у тебя строгая – генерал. С такой-то не разгуляешься. А эти, другие, сестры ее? Меж собою очень похожи.
«Чем же они, – думаю, – похожи?»
А сама отвечаю:
– Ага, вроде того.
Сидим – он руку-то мою взял. Приятно мне, только слышу – шаркает кто-то. Руку вырвала – сижу. Гликерия в кухню выходит: «Водички, – говорит, – попить. После вина-то – жажда». Нацедила – ушла.
Стихло вроде. Он только-то потянулся – снова шаги. Евдокия дверь открывает.
– Уложила, – говорит. – Только не уснет никак – беспокойная чего-то. Пойду рядом посижу.
– Ну, – Николай встает, – и мне пора. Завтра на работу – лечь пораньше.
В прихожей прощаемся.
– Я ведь тоже, случается, по матери скучаю. Она у меня строгая. А потом – не-ет, думаю… На свободе-то веселее…
Ушел. Посуду взялась мыть. Вольно́ им на свободе веселиться… А тут – вертишься день-деньской, вроде лошади этой. По кочкам да по кочкам… Смахнула слезу.
Гликерия телевизор смотрит – удивляется:
– С утра вроде показывали… Гостя этого.
– Утренний, – Ариадна поправляет, – из Польши был, а этот – из Венгрии.
– Да черт их всех разберет, – Евдокия ворчит, злится, – по мне, так все на одно лицо…
– Ну как же! Поляки за нас воевали. А венгры – за немцев.
– Теперь-то, гляжу, разъездились… В войну надо было.
– А я вот чего слышала, – Гликерия робеет. – Будто бы за границей лучше нашего жили – до войны.
– И немудрено, – Евдокия откликается. – У них небось ни революции, ни Гражданской – чего им не жить?
– Вот… – Гликерия ободрилась. – Мне Василий безрукий рассказывал, который у Никольского.
– Помню его, – Евдокия кивает, – в домино играл… Руки-то – по локоть вырваны, так он культяпками наловчился. Еще и зубами помогал.
– Вот-вот, – обрадовалась. – Войну в Чехословакии заканчивал. Ох, и восхищался ихней жизнью. «Там, – говорит, – заводы обувные – Бати». То ли кличка такая, то ли фамилия у них – не поймешь… «Знатную, – говорит, – обувь шили. Офицеры, кто пошустрее, хорошо запаслись – все под чистую выгребли, а я вот, – жалел, – дурак. Руки на войне потратил, а они вона когда бы сгодились. После победы…»
– Дурак, – Евдокия соглашается, – и вправду дурак болтливый… Вот их из города и выслали. Теперь уж помер небось…* * *За мешками на склад иду – Зоя Ивановна навстречу: «Вот, – говорит, – Беспалова. Хорошо, что попалась. В местком зайди после смены – дело к тебе есть». – «Что, – спрашиваю, – за дело? Вроде очередь-то отметили». – «А ты прям как ангел небесный… Думаешь, только и дел у нас, телевизоры ваши отмечать. Сама-то за собой, что – иных грехов не чуешь?»
Губы яркие, красные – помадой малюет.
Николая нашла: «Сегодня не дожидайся после смены. Зоя вызывает – надумала чего-то. Не иначе, снова отчитывать примется, чтобы ребенка – в детсад сдать. А чего ей там, в саду? Дети – злыдни: со свету сживут. Считай, отдать на му́ку».
«Так урезонь ее, – брови сдвинул. – Объясни по-людски. Молчит раз ребенок». – «Что ты, что ты! – руками замахала. – Она ж не знает ничего. Ни одна душа не знает. Ты вот только».
«А и верно, – говорит. – Нашим бабам попади на язык – такого распишут, чего было и чего не было». – «Да это, – говорю, – пусть бы болтали. Ведь другого боюсь: по больницам ведь затаскают, загубят девку». Случай ему рассказала: про мальчонку того – с водянкой мозговой. «Да-а, – сочувствует. – Врачи-то они всякие. Случается, нарочно вредят… Вон, – говорит, – евреи. Вредителей среди них открыли, я первый голосовал». – «Так, – напугалась, – вроде оправдали ж потом?»
«Этих, – смотрит, – оправдали. А другие-то, может, и вредят». – «Да как-то, – говорю, – не верится. Все-таки врачи…» – «Чего, – говорит, – не верится? Немцы-то тоже не дураки небось. Лагеря им специальные выстроили. Вот я и думаю: неспроста. Видно, не просто так. В общем, – заключает, – правильно опасаешься. Так и надо».
Иду, а холодно в сердце. Будто пальцы чьи на горле.
А у месткома ремонтники суетятся, леса ставят. Весь этаж лесами загородили. Дергаю, дергаю – заперто. «С другой стороны, – кричат, – иди. С этой закрыто».
Обошла. Дверь открываю – петли пищат. Красить-то красят, а петли смазать – нету их… Захожу. Олифой в нос шибает, а красота у них – прямо не узнать… Стены в зеленое выкрашены, стол большой – новый. Женщины за столом расселись, а Зоя Ивановна – во главе.
«Заходи, – кивает, – Антонина. Мы вот тут женским советом собрались – побеседовать по твою душу. Поговорим, о жизни твоей подумаем. Раз уж меня не слушаешь». Голос ласковый, тихий – будто муха осенняя. Жужжит.
Слушаю, а сама не знаю, и чего на меня нашло?.. Руки мокрые. О халат их вытерла – оглядываюсь. Чай у них, печенье в тарелочках – сидят, пьют. Сами в платья переоделись. Видать, в душе успели ополоснуться. Я-то как была забежала, в халате. По́том, боюсь, от меня несет. Стул свободный высмотрела – примостилась в уголку.
Зоя Ивановна узел поправила. «Вот, – приступает, – Антонина. Сигналы на тебя идут – на твою беспутную жизнь. Я уж и так и эдак – можно сказать, по-матерински, а тебе – и горя мало: по-своему норовишь. Нехорошо, чтобы женщина себя не соблюдала – ребенок подрастает, а тем более – дочь. Какой ей с тебя пример? Женщина, она – мать. А потом уж – остальное. По-женски, – оглядывается, – мы тебя понимаем, только и в стороне стоять не намерены – не имеем такого права. Вот и ответь нам: как у вас с Ручейниковым Николаем – серьезно или так?»
Головой киваю, а слов-то не вымолвить. Будто кол в горло вбили. Ни охнуть ни вздохнуть.
«А если, – продолжает, – серьезно, так замуж за него собирайся. А кобениться вздумает, мы его мигом под микитки. Ишь устроился – бабу нашел. Теперь, говорит, комнату обязаны. Это, я так понимаю, чтобы было куда водить. В комнате сподручнее. В общежитии-то не ахти развернешься».
Гляжу, Парменова Валька руку тянет – просит слова. Сама гладкая, широкая – титьки через грядку. «Я, – начинает, – как думаю. Антонина не больно виновата. Мужик, какой ни есть, а в загс его не затянешь. Раздумывать будет».
Зоя Ивановна ее послушала – носом повела. Только теперь заметила: нос у ней утиный и сама на утку похожа – по столу локтями елозит, охорашивается. «Ничего, – говорит, – мы свою управу найдем. Видали мы таких – раздумчивых».