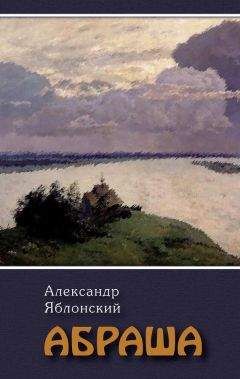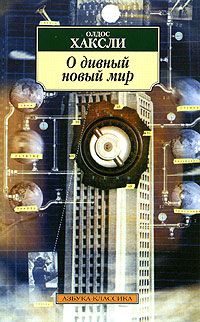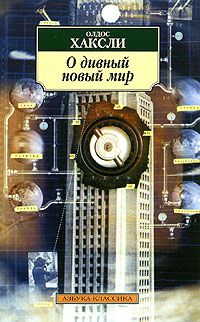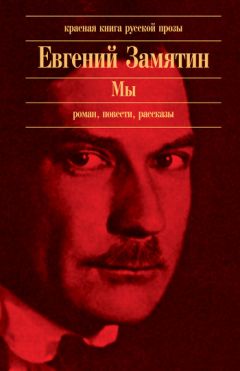Александр Яблонский - Президент Московии: Невероятная история в четырех частях
– Да, это единственная проблема. Но у меня есть подозрение, что российский парламент эту загвоздку устранит, как только с вами станет ясно.
– Всё это вилами на воде писано. – «Что я делаю, я на полном серьезе обсуждаю с ним этот бред. Он явно меня гипнотизирует, я схожу с ума. Олег, опомнись!»
– Олег Николаевич! Не торопитесь, обдумайте, посоветуйтесь с вашей женой – вы ведь женаты…
– А то вы не знаете. И женат, и у меня есть чудные родные, внучатый племянник полутора лет. Всё вы знаете.
– Естественно. Но я не хочу на вас давить. Ваше решение – ваше право. Ещё подумаете, что я вас гипнотизирую. Однако взвесьте: во-первых, вам уже хорошо за шестьдесят. Американские университеты не такие крючкотворы, как европейские, но всё равно, не сегодня-завтра вас с почетом попросят на пенсию. Если же ввязываетесь в эту авантюру – пусть будет по-вашему: в авантюру – о вас заговорит весь мир, и любой университет, любой исследовательский центр будет охотиться за вами и соглашаться на любые ваши условия хоть до ста лет – живите и здравствуйте. Это во-первых. Во-вторых: вы сами сказали, что вас и близко не подпустят. Возможно. Что вы теряете? – Ничего. Вы приобретете мировую известность и апробируете одну очень простую, но, как кажется, действенную технологию. Заодно мы пощекочем нервы этой публике. Если вы уверены в победе – вперед! Если вы уверены в её невозможности, тоже вперед. Вам не надо думать о «потом», об аппарате, поддержке… Легкое приключение и память на всю оставшуюся жизнь. И наконец: неужели вам не хочется пожить другой жизнью, рискнуть… и, чем черт не шутит, выиграть!
…Вечером одуревший от идиотского разговора Чернышев выпил стакан водки и уснул как убитый. Наутро он о лондонском искусителе практически не вспоминал. Было лишь обидно, что от растерянности и злости на себя он забыл взять у Ильи Вовенарга.
* * *– Ну, открой ротик, сердешненький, ну, глотни…
– Не берет он, ужто не видишь?!
– Так жаль его, такой гарненький.
– Не фига себе гарненький. У него аж сто лет не стоит.
– Дура ты старая. Всё Божья душа.
– Не жилец. Видит Бог, не жилец.
* * *Бабка Евдокуша встретила гостя приветливо. Она уже начала привыкать к визитерам, и это положение гостеприимной хозяйки её радовало. Ей нравилось угощать незнакомцев – в доме, благодаря волостному и уездному начальству появился непривычный достаток; ей было радостно знакомиться с новыми людьми и открывать для себя их непростые характеры, привычки, грехи, надежды, болезни. Она оказалась тщеславной: удивление, даже оторопь, восторг, стыд, всегда восхищение, с которыми встречались её «виденья», сокрытые не только от чужих глаз, но даже от своих собственных, и её точные предсказания, – всё это стало необходимо ей, как необходимы аплодисменты, букеты цветов и влюбленные глаза поклонниц провинциальному тенору.
Гость отказался селиться в Избе знатных гостей и даже в охотничьем домике Балабола – трехэтажном, единственном во всей округе кирпичном особняке, с подземными джакузи и бассейнами – очищенным и серным, просмотровым залом, кегельбаном и винным погребом. Поэтому бабка Евдокуша постелила ему в горнице. Журналист устал с дороги и никаких умных разговоров не завел, только общие слова да подарки. Однако бабуля, тихо радуясь, сразу же его ошарашила: «И ещё, сынок, не забудь шоколадки, что в правом кармане лежат. Я дюже как сладкое полюбила, аж зубы, что остались, зачернели». Изумленный Л. вынул забытый гостинец, но Евдокуша добила: «Ты ложись, помолясь, а я тебе, болезный ты мой, сейчас отвару травяного приготовлю, штоб печенке твоей облегчение вышло-то…». – «Да-а, непростая бабка. Как чуял. Может и вытащит меня из глубокой жопы».
Утро выдалось мрачное, дождливое. Спал Л. преотменно: бабуля, наверное, какого дурмана подмешала, потому что давно так сладко и сытно не спалось, ничего не болело и даже не чувствовалось, как лет тридцать – тридцать пять тому назад, когда он успешно заканчивал столярное ПТУ.
Поутру разговор не вязался. Л. заготовил «подъезд», зацепку для беседы по интересующей его теме, но с утра язык плохо слушался, мысли расползались, к зацепке было не подлезть и, вообще, клонило в сон. Аромат настоящего чая кружил голову, хотелось поделиться своими проблемами, пожалиться, как в детстве перед бабушкой, но Евдокуша его отрезвила и сама взяла быка за рога.
– Ты, милок, не мучайся, не тужься. Знаю, пошто притащился. Человечек ты не простой, мутноватый, много в тебе дури всякой набралось, самому, небось, тошно… Но я тебе скажу. Ты меня уважил, подарочки обдумал, не просто с бухты-барахты бутылку сунул… Хотя бутылка – в наших краях – капитал. За бутылку и крышу подлатают, и забор подопрут, и калитку с воротами навесят, и человека убьют…
– Евдокия Прокофьевна…
– Не мельтешись. Ты меня уважил, и я тебя отблагодарю. Да и как не помочь, ежели ты доброе дело задумал. Авось прежние грехи свои скинешь.
– О чем вы, какое доброе?..
– Так вот… Имени-фамилии я его не знаю. Но знаю вот что – ты не стесняйся, свою машинку записывающую включай – поставь на стол и включай, не мучайся под стулом, – Евдокуша протерла скрюченными пальцами слезящиеся глаза, замолчала, уставившись в вазончик с засахаренным вареньем из крыжовника. – Так вот: будет он самым большим командиром, как Ельца…
– Какой Ельца, вы про кого?
– Цыц! Не перебивай. И будешь ты ему верно служить, и, может, он тебя отблагодарит и приблизит, ежели ты нынче подсуетишься. Цыц, говорю… Может, приблизит, а может, и нет… Это как планида его повернется. Но то, что заживет в вашем Кремле – точно вижу. Вижу и знаю. И будет он всё время в квартире на втором этаже жить, никуда не выезжая. А часто спать в маленькой комнате, что за его рабочим кабинетом… На диване, таком кожаном широком… Не новом. Какой он? – Высокий, спокойный, живет не у нас. Далече живет он пока что… За морем-океаном…
– В Америке, что ли?
– За морем-океаном, говорю. Глаза – добрые… А вообще-то он – наш. Из города красивого. Там ночи, как день бывают. Там наш Егорушка, бабки Матрены внук служил, охранял, значит, нас. Хороший такой паренек был, мне воду из колодца носил, хотя я тогда моложе была и сама могла… Старики-солдаты, которые пятый год служили, забили его, говорят. Хотя письмо прислали, что он от легких, которые воспаление, помер. Город красивый. О, – Питер! Так он оттуда. Его там ох как уважали. Любили. А как заговорит – не оторваться. Умный мужик. Начальником был… Начальником… Всё! Отдыхай…
Глаза Евдокуши просветлели, взгляд оторвался от варенья.
– Ты крыжовничка-то наверни, прошлогодный, удачный, сладкий был. В нынешнем годе дождей много было, я и не варила. Сахара, сам знаешь, хрен достанешь, а кислятину мне не по животу уже…
– Так я вам пришлю сахару-то из Москвы.
– Ну, смотри… Пришлешь, – премного благодарна буду.
– А где он работал в Питере, кем? Хоть примерно! Сахара, клянусь, пришлю вам; его через три дня от Полномочного привезут. Да что говорить, я прямо сейчас и позвоню.
И позвонил. Прямо вставил в ухо маленькую хренотень и попросил «на связь» даже не Балабола, а Самого. И так запросто, как с пацаном: «Л. приветствует! Доброе, доброе… Как здоровьице? – Отлично… Огромное спасибо… За мной не заржавеет… Нет, никаких… Впрочем, есть одна: надо бы пару мешков сахара подослать… Сейчас спрошу». – и к Евдокуше: «Какого: рафинада или песка?» – Евдокуша даже замерла, услышав про два мешка, и сразу не сообразила. «Того и другого», – выдавила наконец она, не веря своим ушам и губам. «Понимаю, Степан Аристархович, понимаю. Из Стратегического запаса… Но если что, сошлитесь на меня, а я начальнику Департамента стратегических запасов продовольствия всё объясню, мы с ним кореша, а если надо, и с Президентом поговорю. Вы же знаете… Ну, спасибо!.. Да что бутылка, ящик с меня! Вы какой предпочитаете? – … «ХО», конечно! А Маргарита Ксенофонтовна? Ну, какие разговоры! Конечно…. «Адвокат»…. и «Лимончело ди Сицилия». У Вашей супруги изысканный вкус. Спасибо. Обязательно замолвлю. Кого? А… Солженицына… Последний том… Всенепременно! Но вы и так в почете. «Сам» вас уважает. Лично слышал… Непременно… Обнимайте домочадцев!.. А я вас… Обнимаю!» – И всё. Так и сказал: «Обнимаю!». Бабка Евдокуша почувствовала, что Стена приближается.
– … Подожди, сынок… Не торопи… Работал он у речки. Широкая такая. Напротив большого храма. Храм огромадный, но на нашу церковь не похож, купола не зеленые, а как золотые… Любили его там… Не в храме, а где работал… Учил, но не детей… Молодых учил… Чему, не ведаю… В храм ходил, но в другой… А потом он начальником сделался, но где, не пойму, прости. Притомилась я…
Через три часа вертолет Департамента чрезвычайных ситуаций, индийского производства – «Кондор Стремительный» доставил два мешка сахара и, в придачу, два килограммовых пакетика гречи. Евдокуша забыла, как она выглядит, – даже прослезилась от неожиданности – молодость вспомнила.