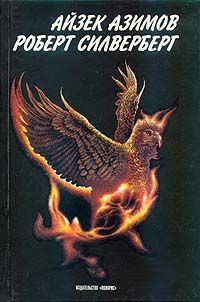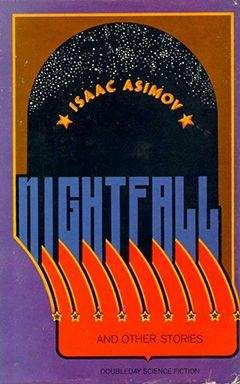Вячеслав Пьецух - Левая сторона (сборник)
– Ну, это дудки! – сказал Бурундуков. – Деловые люди – это кто дело делает, а вы – деньги. По-настоящему, вы все душевнобольные, вот вы кто!
– Это почему же мы душевнобольные? – с обидой в голосе спросил Спиридонов и присел на стул.
– Например, потому, что вы время от времени садитесь в тюрьму из-за денег. Ведь это же курам на смех – сесть в тюрьму из-за денег, как вы не понимаете! Или вот еще что: вы все уверены, что умеете жить, а между тем вы представления не имеете о том, что значит жить! Вы как младенцы, у которых мир ограничен пределами песочницы и коляски, в то время как этот мир измеряется даже не двором, даже не улицей, даже не городом и даже не страной…
Спиридонов вытащил из кармана носовой платок, высморкался и сказал:
– Это идеализм и полный отрыв от жизни. Философия, одним словом, как говорится, без пол-литры не разберешься. Кстати, не найдется у вас пол-литры?
– Не пью, – буркнул Бурундуков и слукавил: на самом деле он попивал.
Спиридонову стало немного не по себе.
– Слушай, может быть, перейдем на «ты»? – предложил он из опасения, что дело принимает нежелательный оборот. – Тебя как зовут-то, блаженный ты человек?
– Павел, – ответил Бурундуков.
– А меня Серега.
Бурундуков с минуту пристально смотрел на Спиридонова, как если бы он намеревался его окончательно раскусить, а потом пошел в кухню, из которой он неожиданно принес початую бутылку водки и сковороду жареной картошки.
– Подогреть или так срубаем? – спросил он, показывая картошку.
– Так срубаем, – ответил Спиридонов, махнув рукой. Когда выпили по второму стакану и немного потыкали вилками в сковороду, Бурундуков накуксился и сказал:
– Жалко мне тебя, Серега, до слез жалко, потому что профуфукал ты бесценный дар жизни!
– Ну, это еще бабушка надвое сказала, – возразил Спиридонов.
– Нет, Серега, это определенно. У нормальных людей деньги всегда были чем угодно, но только не всем. Средством накопления, средством платежа, мировыми деньгами – только не всем. Так что погубил ты себя, Серега, без ножа зарезал и заживо закопал!
– Нет, это ты зря.
– Что – зря? Я вас не понимаю…
– Мы на «ты».
– Я тебя не понимаю. Что – зря?
– Да все! Может быть, ты только потому на меня критику наводишь, что у тебя денег нет.
– Поклеп!.. – с чувством произнес Бурундуков, пошатывая головой. – Если бы у меня были деньги, то знаешь, что бы я с ними сделал? Я бы купил грузовик конфет! Встал бы где-нибудь на перекрестке и раздавал москвичам конфеты за просто так. Писатель Ильф об этом очень мечтал.
– Ты думаешь, я так не могу? – сказал Спиридонов.
– Конечно, не можешь, потому что ты жулик и крохобор!
– А вот и могу!
– Нет, не можешь!
– А я тебе сейчас докажу, что могу. Ты думаешь, что барахло для меня все? что у меня за пазухой не русская душа?..
– Бумажник у тебя за пазухой, а не душа!
– Нет уж, это извини-подвинься! Давай поспорим на штуку, что я смогу?
– Штука, это что?
– Тысяча рублей.
– Ну, подумай своей головой: откуда у меня тысяча рублей?
– Действительно… Ну ладно, я и без тысячи докажу. Есть у тебя ломик?
Бурундуков подумал и сказал:
– Ломика нет.
– А палка покрепче есть?
– И палки нет. Но можно снять вот этот карниз, и Бурундуков указал головой в сторону карниза, на котором висели шторы.
Спиридонов внимательно посмотрел на карниз, вытащил отвертку и начал его снимать. Когда дело было сделано, они положили карниз на плечи и стали спускаться по лестнице с четвертого этажа. Ходу было максимум полминуты, но так как карниз то и дело заклинивало в пролетах, тащились они минимум полчаса. Во дворе Спиридонов отобрал у Бурундукова карниз, подошел к своей «Ниве», занес карниз над капотом так, как заносят цеп, и ехидно проговорил:
– Значит, не могу?
– Не можешь, – подтвердил Бурундуков.
Карниз обрушился на капот, сильно помяв его примерно посередине.
– Значит, не могу? – повторил Спиридонов и, не дожидаясь ответа, обрушил карниз на лобовое стекло.
Он корежил автомобиль еще минут десять, пока Бурундуков ему не сказал:
– Ну, хорош, Серега, я тебе верю. Теперь пойдем в мою квартиру громить, а то это будет несправедливо.
– А чего ее громить? – возразил Спиридонов. – Она у тебя и так хижина дяди Тома. Пойдем лучше мою громить, там для меня работы – ну, непочатый край!..
– Нет, твою квартиру нельзя, баба обидится.
– Она у меня вот где! – сказал Спиридонов, показывая кулак.
– В таком случае я не против.
Они обнялись и с песней пошли громить Спиридоновскую квартиру…
ВОССТАНИЕ СЕНТЯБРИСТОВ
Такое замечание: в отличие от всемирной истории, в отечественной истории трагедии редко повторяются в качестве фарса, а преимущественно в качестве той же трагедии, только еще более неистового накала. Ну, что такое, скажем, Малюта Скуратов по сравнению с Николаем Ивановичем Ежовым – шальная особа, и более ничего. А Северная война, в которую солдаты гораздо чаще умирали естественной смертью? А Тайная канцелярия, где самым сильным средством воздействия была трость Шешковского, да еще при Алексее Михайловиче Тишайшем между делом занимались метеорологическими наблюдениями, ибо у нас и погода – большой секрет… Наконец, Иван Грозный был шахматист; дальше уже, как говорится, ехать некуда, если Иван Грозный был шахматист.
Все это сейчас к тому приходит на ум, что в сентябре 1979 года в деревне Шебалино многострадальной Ярославской области совершилось восстание местного населения. Восстание было самым настоящим, с заговором, стрельбой, кровью, судом, карой, и даже у его вождя фамилия была Пестель.
Каша заварилась по той причине, что в районе решили упразднить деревню Шебалино. Стояла она действительно на отшибе, дорога к ней находилась в доисторическом состоянии, магазина не было, школы не было, хотя один учащийся, именно малолетний Сорокин, неминуемо подрастал, жителей насчитывалось всего-навсего тридцать душ; вообще, настолько глухая была деревня, что тут не то чтобы до конца верили в телевизионные трансляции из Москвы. Так вот, несмотря на такое сиротское положение, шебалинские решили властям деревню не отдавать. Заводилой выступил Иеремия Иванович Пестель, из поволжских немцев, в просторечии – Еремей: то ли ему фамилия покою не давала, то ли в нем взыграло глубоко германское чувство человеческого достоинства, дремавшее в нем до поры до времени, то ли он от рождения был бунтарь.
После того как в Шебалино наведался человек из района и честно предупредил, чтобы местные складывали чемоданы, так как деревня за ненадобностью отменяется и всех шебалинских переселяют на центральную усадьбу совхоза, село Петропавловское, этот Пестель самочинно созвал деревенский сход. Когда возбужденные, а частью и потрясенные шебалинские сошлись у дальнего колодца, причем братья Соколовы – Иван, Сергей, Петр – в силу генетической, верно, памяти явились на сход с дрекольем, Пестель сказал односельчанам нервную речь, смысл которой сводился к тому, чтобы властям деревню ни под каким видом не отдавать. Заключительная часть этой речи звучала так:
– А то, понимаешь, какую моду взяли! То они калмыков переселяют, то крымских татар, а теперь и за нас взялись, за среднюю полосу! Что за древнеегипетские приемы?!
Надо заметить, что шебалинские издавна были в обиде на районные власти и за метафизический трудодень, и за налоги на яблони, и за двойной план по мясу, поэтому народу прочно легли на душу Пестелевы слова. В сомнении остался один Степан Умывакин, старый пораженец и пессимист.
– Ничего у нас не получится, – сказал он. – Потому что против лома нет приема. Вот ужо нагонят ребят в черных шинелях, так сразу как миленькие в Петропавловское побежите! В ОГПУ наших шуток не понимают, это я, граждане, знаю не понаслышке.
– Ты что, Умывакин, осатанел?! – сказал ему Иван Соколов. – Все-таки сейчас не сорок шестой год, а семьдесят девятый – предельно ты допился, старик, как я погляжу.
На это Умывакин только махнул рукой, давая понять, что между сорок шестым и семьдесят девятым годами он принципиальной разницы не усматривает.
Как бы там ни было, сход сочинил протест, все шебалинские его подписали, кроме Умывакина да малолетнего Сорокина, который писать еще не умел, и Пестель самолично доставил протест в район.
Заместитель предисполкома Меньшиков выслушал Пестеля, прочитал протест, посмотрел в окно, постучал ногтями по какой-то зеленой папке, потом сказал:
– Давай считать так: вы эту бумагу не писали, а я ее не читал. Иначе вы, товарищи, жизни будете не рады – это я официально вам говорю.
– Ну уж нет, товарищ Меньшиков, – заявил Пестель. – Мы бумагу писали, а вы – читали!
– Смотрите, мужики, как бы горючими слезами вам не умываться.
– А ты нас не пугай!
– А я вас и не пугаю.
– А ты нас не пугай!
– А я вас и не пугаю. Просто-напросто посадим мы вашу шоблу за групповщину со взломом, и все дела.