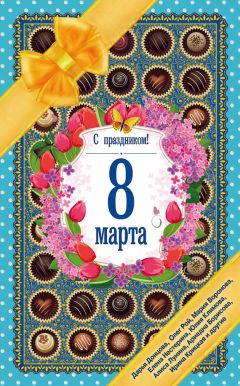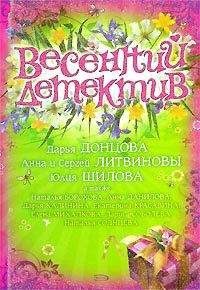Людмила Улицкая - Девочки (сборник)
– Она сейчас вилочку проглотит! – закричала Вика, указывая на Челышеву, обкусывающую по краю бутерброд. Голову Мария наклонила так низко, что русые косички с распустившимися лентами лежали в тарелке.
Вика схватила вилочки с ее тарелки и засунула все черенки в рот, так что наружу торчали разноцветные зубья.
– Как ты себя ведешь, бессовестная, – громко зашептала Гайка.
– А тебе какое дело, мне так родина велела! – шепеляво ответила Вика, и опять все покатились со смеху.
Не смеялась только Лиля Жижморская. У нее между форменным платьем и фартуком лежал сюрприз, и она терпеливо ждала подходящей минуты. Ей казалось, что минута эта не настала еще, и она нащупывала пальцами пачечку, но в это время Вика вылезла из-за стола и вытащила из алькова, с многоспальной кровати, большого нежного мишку – узкоплечего, с толстым задом и волнисто-плюшевым телом.
– Это Тедди, – назвала его Алена.
– Точь-в-точь дядя Федя, – немедленно отозвалась Вика.
И опять все засмеялись. Он действительно и грушевидностью фигуры, и загадочной целенаправленностью высунутой вперед морды смахивал на школьного дворника дядю Федю.
Вика посадила медведя к себе на колени и стала кормить его с вилочки…
Всем было по десять, только Колывановой уже исполнилось одиннадцать, и они по обязанности своего зрелого возраста вынужденно расставались со своими куклами. Новые, книжно-школьные обстоятельства превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия. Хотя бы под ночным одеялом. Даже у серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку, за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать:
– Еще ложечку, мишенька! За маму! За папу! – И, не выдерживая заранее известной роли, сбивая весь серьезный обряд кормления в потеху, добавила: – За всех мишек в зоопарке!
Глаза у них с мишкой были совершенно одинаковые: коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой.
Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Кити, Бетси, Джун – американскими красотками, уже чуть двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждала полная и окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой, как сторублевки.
Гайка вцепилась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно – с точки зрения кормления – приоткрыт, и оттуда, из красной глубины, мерцали настоящие фарфоровые зубки.
На колени Колывановой великодушная Алена положила младенческую Кити в ползунках, с болтающейся впереди крошечной, но вполне настоящей пустышкой и с изумительными искусственными глазами пестро-голубого цвета.
Жижморская и Челышева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечьи мотала льняным хвостом, завязанным на маковке…
Алена отобрала у них Элис, свою всегдашнюю старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол – кудрявую барышню в пелерине и куклу-мальчика в матроске и совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эти две куклы были старинными.
Все дружно вдохнули и выдохнули. Эта пара была так небесно прекрасна, что до них и дотронуться было страшно, не то что вступать в интимно-родственные отношения, необходимые для игры. Что и подтвердила немедленно Алена:
– Мама мне их никогда не давала. Говорит, это семейная лериквия, а не игрушка.
Алена иногда путала трудные слова.
Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них, лежащих, были закрыты, но не плотно. От длинных ресниц ложилась зубчатая тень на фруктово-ягодный румянец щек. Алена вела одноклассниц как экскурсовод:
– Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая. Маме было обидно, что они слишком уж длинные. В Самаре, где бабушка жила, у них был дом деревянный, и еще до революции дом сгорел, все-все сгорело, а на другой день пришла знакомая портниха и принесла этих кукол, потому что Счастливчику пальтишко шила, а Княжне новое платье. Бабушка им тогда заказала новую одежду, потому что моя мама должна была родиться. И оказалось, что это было все, что после пожара осталось.
От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже трогать кукол расхотелось. И посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь.
– Мама ваша, – в тихом ужасе прошептала Колыванова.
Алена пожала плечами:
– Нет, это не мама. Они сегодня поздно придут, у них вечер в министерстве.
Действительно, пришли Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангелически-дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками и складочками.
Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю акробатики, небрежно взяла Счастливчика и сказала равнодушным голосом:
– У меня точно такой же есть.
«Врет», – подумали все.
– Врешь! – сказала Вика.
Только что они были готовы тронуться в стройно-вымышленную жизнь, где правка неудовлетворительной реальности игрой превращает эту реальность в справедливую и упоительно-податливую, и весь мир покорно ходит по кругу, куда его пошлют: то на охоту, то на базар, и послушные дети, кротко приняв условно-заслуженное наказание, смиренно подчиняются божественной воле мамы.
Но теперь играть почему-то расхотелось.
Это и была та минута, когда Жижа достала свой сюрприз и торжественно произнесла:
– Смотрите, что у меня есть!
Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Лиля разложила их на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть.
Там была сумрачная красота. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной, с изгибом над переносицей, бровью. Замершие жесты их вывернутых рук и сложноподчиненных ног были гимнастическими и неестественными.
У той, что сидела с сазом, были золотые браслеты на лодыжках, туфельки как золотые перчатки, и соски двух нестерпимо голых грудей тоже были золотыми.
Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале; две обнимались, сплетя ошароваренные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это вообще значения не имело.
Некая в густо-желтом, с огромным зеленым камнем на лбу, держала в руках – о господи! – книгу, тогда как второй изумруд выглядывал из пупка. Еще одна томно обнимала маленькую газель с девичьим лицом. Там были причудливые золотые клетки с вымышленными птицами, состоящими в родстве с орхидеями, преувеличенные гранаты на карликовых деревьях, драгоценные фонтаны с синей, вертикально замершей водой, кувшины, веера и шкатулки. И пухлый седобородый старец в синем звездном халате и в головном уборе, напоминающем громоздкий абажур. В середине его маленькой, неправдоподобно отогнутой ладони стояла рослая змея, подогнув под себя конец сложенного крендельком толстого хвоста.
Все на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало, всякое прикосновение рождало наслаждение: шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху, и это любовное притяжение материи, мощное и невидимое, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек с силой и новизной и требуя от них чего-то, а чего именно – неизвестно.
– Сейчас! Сейчас! Я знаю! У меня есть! – догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскодонных кожаных подошвах, в коридор, к сундуку, заваленному густо воняющей мокрой шерстью и мехом.
Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука. Та медленно, с большим протестом, подалась. Вторая уже не сопротивлялась.
Стоя по колено в куче скомканной одежды, Алена с трудом подняла крышку, и на всех повеяло сладким нафталиновым духом. Несколько насмерть убитых иностранных газет лежали сверху. Алена сдернула их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками.
Она вынимала распластанные вещи одну за другой: черное бархатное платье с вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье, с гербарным букетом у сердцевидного выреза, и целую кучу капитулировавшего некогда шелка: бледно-табачное кимоно на алой, в багровых хризантемах подкладке, еще кимоно и целый выводок шелковых пижам невозможных в этих широтах оттенков.
Девочки с благоговейной осторожностью, как сонных детей, передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшие из моды туалеты дипломатической жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бостоновом костюме, с его добротной двубортностью и почтительной преданностью телу и делу.