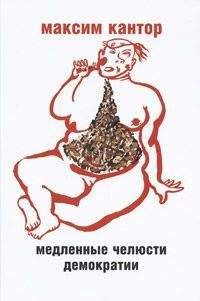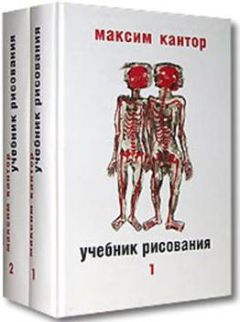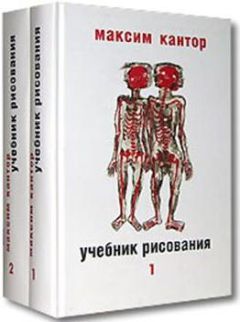Максим Кантор - Красный свет
– Вот ты и прощай, – говорила ему баба Муся, – у тебя работа такая, что ты можешь простить. А мы помнить должны.
А самая древняя, бабушка Соня, сказала так:
– Ты не можешь отказаться от своей вины, когда бы ты ни совершил грех, он всегда будет с тобой, и ты его на горбу потащишь в могилу.
– Но ведь Господь может простить, – сказал Петр Яковлевич, – Господь милостив, – сказал следователь.
– Господь, может, и захочет простить, а вот мы не простим, – сказала бабушка Муся, которая помнила все особенно въедливо. – И почему это я должна прощать, если кто сделал гадость!
– Потому что он раскаялся и замолил, – сказал Петр Яковлевич.
– Нельзя ничего замолить, – сказала Муся, – все люди навсегда пребывают связанными воедино, и те, кого ты предал, повиснут у тебя на шее навсегда и утянут на дно. И богатство, что ты украл, оттянет карманы, и провалишься в бездну, где плач и скрежет зубовный. Ничего ты не отмолишь, ничего.
– Неужели совсем ничего нельзя забыть? – спросил следователь.
– Если забудешь, ты потеряешь свою историю и станешь травой.
Петр Яковлевич сидит на кухне перед чистым листом и рисует схемы. Он занят расследованием. Надо решить уравнение; следователь хочет понять, кто виноват в преступлении, перебирает варианты.
Решение рядом, он знает; надо верно расставить факты, иначе ошибешься. Следствие – как история. Сколько раз в истории ошибались! Гонят солдат на край света воевать, а потом оказывается, воевать не стоило. Вот Гегель выстроил линеарную модель истории – и ошибся, забыл про Китай; философ истории написал, что Китай уснул навсегда. А Китай вдруг проснулся. Может быть, все драмы Запада от нелепой ошибки следователя Гегеля? Понадеялись, растратили силы на марш и барабанный бой – а теперь Восток хочет первенства. Или надо учесть данные, добытые следователем Хайдеггером? Но как учесть онтологию бытия – ведь следствие занимается феноменом бытия и разрушением каждого конкретного феномена.
– Про Хайдеггера, – говорит бабушка Соня, – Ракитов с полицаем Пигановым спорили. Во Ржеве у них дискуссия состоялась по поводу онтологизации категорий. Ракитов говорил, что бытие следует различать на битие-по-морде, битие-по-почкам и битие-до-без-сознания. И последнюю стадию бытия осмыслить труднее всего, хотя она является наиболее онтологической из всех.
– А Пиганов возражал, он утверждал, что битие-по-почкам-до-без-сознания-и-вопреки-сознанию-того-кто-дубасит и есть наиболее полная степень самопостигаемости совести.
– Хайдеггер – главный философ Новейшего времени, – говорит бабушка Зина, про которую никогда бы не подумали, что она в ладу с философией, – мы во Ржеве его часто читали. Феноменология бытия тогда сильно страдала, зато онтологии было навалом.
– Если бытие неопределимо и это есть само-собой-объясняемое понятие, то отнять бытие у другого нельзя, это так Ройтман объяснял Хайдеггера. Мы можем отнять у другого только то, что хотим отнять, ведь так? А как мы можем желать отнять то, что нам самим непонятно? Фашисты как бы ставят вопрос о бытии евреев и русских – в самопостигаемости бытия-внутри-неопределимого-бытия-лагеря, – говорит бабушка Соня.
– Нацизм, как возражал ему Ракитов, есть онтологизация феномена коммунизма. То, что коммунисты хотят внедрить как феномены житейской практики, нацисты онтологизируют. Равенство для коммунизма – это желаемый феномен бытия, а для фашистов равенство есть онтологизированная категория. Это нагляднее всего видно на примере газовых камер. Когда у евреев выдергивали золотые зубы и сбривали волосы на шиньоны, персональное еврейское бытие как бы присовокупляли к общему бытию, в котором золотые-зубы-в-целом не являются атрибутом феноменологии, но суть – чистая онтология.
– Ты понимаешь, Петя? – спрашивает бабушка Соня.
– Это просто, Петя, – говорит бабушка Зина. – Cуществование понимает себя самое, всегда исходя из своей собственной экзистенции, как некую возможность самого себя: быть самим собой или не быть таковым. Именно в этом смысле бытие евреев есть некая возможность бытия, но одновременно и вопрос об этом бытии. Переведя феномен равенства в его онтологическую ипостась, нацизм как бы вопрошает еврея: ты есть – или тебя нет?
– Нацизм есть онтологическое вопрошание бытия, – говорит Муся.
– Мне это совсем непонятно, – жалуется Петр Яковлевич. – Как следователь я нуждаюсь в ясности показаний. А здесь одна и та же вещь поименована трижды по-разному: бытие, экзистенция, онтология – это ведь одно и то же?
– Некое феноменологическое бытие еврея может быть разрушено, так они считали; но это не обязательно ведет к полному уничтожению онтологического вопрошания о бытии еврейства, – объясняет Соня.
– Нет, для меня это слишком сложно.
– Ты, Петя, всех подряд не слушай. Будут советовать: и так попробуй, и сяк попробуй. А еще скажут: сколько людей, столько и правд. Не верь, Петя. Правда одна. Надо посмотреть на всю историю разом – и сам поймешь, что главное.
– А как понять? – с улыбкой говорит Петр Яковлевич.
– Вот когда женщина любит, у нее есть правда, – говорит бабушка Зина.
– А мужчина? А страна? Как понять, права страна или нет? А культура?
– Если отец и сын образуют одно целое – значит, страна права, – сказала бабушка Соня.
Но Петр Яковлевич прожил всю жизнь холостяком, иных женщин, помимо своих бабушек, он не знал. И детей у него не было, и отца он не помнил. Он жил среди чужих фотографий; на фотографиях незнакомые женщины обнимали неизвестных ему мужчин, а мужчины закрывали женщин грудью. На других фотографиях сыновья прижимали головы к плечам отцов – и он знал: так любят в чужих семьях. Щербатов нежных воспоминаний не хранил – помнил лишь детский дом, а потом приехала в детский дом бабушка Соня, забрала мальчика в московскую квартиру. Истории, которые мальчик слышал от старушек, которые следователь слышал на допросах и читал в книгах, – были историями других людей, сам он этих историй не пережил. И когда он стал судить мир – ему не с чем было этот мир сравнить. От него требовалось найти решение в чужой жизни, сказать, кто виновен в чужой истории. Может ли он судить незнакомых людей и чужие чувства, если он сам этих чувств не знает? Он никогда не ревновал, не ждал чужую жену на свидание в гостинице, не писал анонимных писем – как может он судить любовные чувства? Он не обнимал женщину и не плакал в разлуке с ней. Он не держал руку мертвого отца, не держал на руках новорожденного сына – что он может сказать тем, кто эти чувства испытал?
Но скажите, как судят англичане – о русских, и как судят русские – о таджиках? Разве мы знаем, что чувствуют немцы, когда видят, как горит их аккуратная страна? Разве нам ведомо, что чувствует перс, когда смотрит на своих детей, – то ли самое, что чувствуем мы? Или иное? Разве русский понимает, что чувствует еврей, – а еврей, что он может знать про боль русского? Мы всегда судим чужую историю и чужих людей, исходя из своего опыта, – а опыт у нас небольшой, говорил себе Петр Яковлевич. Но все наше знание о мире – это набор наших суждений, не больше. Мы отсеяли то, что нам кажется ложным, от того, что нам кажется правдивым, – а как мы можем отличить одно от другого? Не правильнее ли – уклониться от суждения? И сколь часто мы говорим сегодня: воздержись от суждения – тебе неизвестна чужая правда. И так правильно, нельзя судить. Но если война? Если смерть? Ведь правда – только одна. И каждый раз, когда случается смерть – а я все время вижу боль и смерть, – всякий раз я понимаю: правда одна, она поверяется смертью и проверяется насилием. Однажды происходит такое, что дает право выносить суждение о других.
И каждый день совершается насилие и наступает смерть, и я должен судить тех, кто не подлежит моему суду.
Сколько противоречий в Писании! Он говорит: «Не судите, да не судимы будете», – но сам Он судит постоянно. Но Он же Бог. А если прав Толстой, и Он – всего лишь врач? Разве врач не призван выносить суждения ежедневно о чужих людях? И что будет, если врач откажется от суждения? Разве врач имеет право прощать недуг? Но кто сказал тебе, что этот недуг не есть – здоровье?
Следователь смотрел на фотографии на стенах: ему с детства говорили, что это и его семья тоже. Бабушки говорили ему:
– Видишь, этот военный – Сергей Дешков.
– А это Соломон Рихтер.
И Петр Яковлевич вглядывался в чужие черты; вот, думал он, и у меня тоже есть семья. Но что это значит: семья? Значит ли это, что иная жизнь – сделалась его жизнью? Череда отцовств – и есть история, и если даже я не знал отца, я вольюсь в чужую семью, я стану пасынком истории. Но разве жизнь сына буквально вытекает из жизни отца? А если это не так, значит, история делится на много рассказов и у каждого рассказа своя логика, свой закон? Разве он получил право судить всю семью Холиных – и отцов, и сыновей – на том основании, что однажды вошел в их дом и стал им родней? Он судит на основании закона, да; но что такое закон, если закон охватывает своих и чужих? Разве пригодился кодекс Наполеона – России? Разве не встали русские крепостные с дубьем против чужой им цивилизации, в которой уже не было рабства? И что – это было правильно?