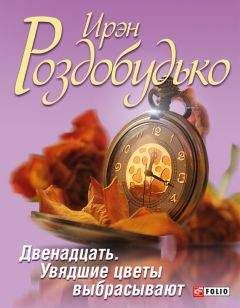Александр Солин - Вернуть Онегина. Роман в трех частях
Странно, что навязчивая игра воображения, прямым образом питавшая крепнущий внутри нее творческий ручеек, не влияла на ее отношения с музыкой. Несмотря на все Сашкины усилия облагородить классикой ее вкус, он у нее по-прежнему оставался непритязательным и неразборчивым и не простирался дальше общедоступных эстрадных шлягеров и тех образцов музыкальной культуры, которые, будучи похищенными их авторами с рабочего стола самого бога, имели, как у воздуха, способность угождать всем. Например, «Полонез» Огинского или «Марш тореадора», или танец с саблями – да мало ли божеских нот наворовали ушлые композиторы к тому времени! Впрочем, не отставали от них и литераторы – к примеру, тот же Пушкин.
Она, конечно, одолела подсунутую ей Сашкой биографию Чайковского, но заводить тесное знакомство с его музыкой не спешила: ей достаточно было того, что она слышала по радио. Нет, она, безусловно, чувствовала красоту отдельных пассажей, но встречи с ними не искала. То же самое с литературой: «Евгений Онегин», придавленный прилежным хрестоматийным надгробием, мирно покоился в ее памяти под лихой, певучей эпитафией «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…»
Человеческая судьба, как галактика: чтобы окинуть ее взглядом и оценить, надо быть на изрядном от нее удалении. Водоворот узнается по форме и, находясь внутри, невозможно быть в курсе будущих событий, их вида и скорости. Взгляд со стороны есть привилегия мудреца, но тем и ценно настоящее искусство, что публикуя снимки чужих галактик, оно дает нам возможность представить собственную.
До того часа, когда ей откроется водоворот ее жизни, оставалось не так уж много времени.
С целью дать представление о насмешливом, превратном благополучии этой ранней, возвышенной части ее биографии, не лишне будет упомянуть, что в молодежной городской летописи того времени она была прочно и несмываемо помечена, как Алка, Которая Будет Жить в Москве. Этакая местная разновидность Берты Большая Нога – старинной дамы, которую французская молва отправила когда-то из провинции в небольшой городок Париж и выдала замуж за короля Пипина Короткого. Правда, та же молва по сей день не уверена, добралась ли Берта до Парижа.
Следует заметить, что титул этот, проча ей завидную среди прочих судьбу, особой зависти у ее сверстниц не вызывал – отчасти потому что в этом возрасте у всех все только начинается, а она всего лишь грозила опередить остальных, отчасти из-за ее неподдельной доброты и деятельной сердечности. А если и завидовали, то только как избранной и счастливой участнице любовной истории московского студента и сибирской фабричной девчонки – истории, попасть в которую мечтали все. И пусть инопланетностью и эпичностью своей история эта грозила затмить прецеденты нового времени, для того чтобы стать городской молвой ей не хватало самой малости: счастливого конца.
Что до ее желания одеть каждого на свой манер и вкус, то мечтам этим если и суждено было сбыться, то не на фабрике: по силам ли пусть способной, но сопливой девчонке остановить и перенаправить к высокой цели тупой, горячий, грохочущий и лязгающий, как гусеница танка социалистический производственный процесс! Скорее всего, после института она уйдет в индпошив, думала она, постигая плановый метод удовлетворения материальных потребностей с точки зрения его технологического обеспечения. Но будет это не скоро, ох, не скоро. С другой стороны, любой способ производства хорош, если он не мешает твоему счастью – как и все советские люди полагала она, не зная еще, какую историческую загогулину готовит ей любимая родина.
От него по-прежнему шли письма, и ей они казались лаконичней и суше обычного. На ее осторожные телефонные замечания на другом конце провода жаловались на завал и нехватку времени. Допустим, и все же куда делся аромат только им известных подробностей, что проступал раньше из пропитанных его чувством белых прокладок межстрочного пространства? Где хорошие, искренние, невыдуманные слова про то, как душист пряный запах ее волос, как тепла, нежна и свежа ее кожа и как легки и воздушны ее поцелуи? Он что, больше ее не любит? Тогда пусть так и скажет, и она пойдет и утопится в первом попавшемся водоеме, отвечала она и, хохотнув через силу, добавляла: «Шучу!»
Перед сном она с мучительной регулярностью вспоминала их последние, спрессованные в десять дней сочленения – горячие, бурные, бесстыдные, отмеченные затяжными встречными усилиями и солидарными конвульсиями. И тогда из глубины на поверхность всплывали темные пузыри желаний, заставляя ее, разметавшуюся во сне, томиться и грезить.
Возможно, кому-то в ту пору могло показаться, что ее улыбчивая, размеренная с виду жизнь протекала без особых событий, однако не стоит забывать, что терпение и ожидание сами по себе есть особые события.
16
Предполагалось, что февраль восемьдесят пятого окажется последним в родословной их зимних встреч, которыми они в течение нескольких лет, словно короткими прочными заклепками скрепляли полуобручи ожидания. Считалось, что следующий февраль станет неразрывной частью новой конструкции – супружеской. Так, во всяком случае, гласил их прежний уговор, который ни одна из сторон не подвергала до сих пор сомнению.
Тот февраль и в самом деле оказался последним – в том унылом числительном смысле, в каком предстает в безжалостных лучах судьбы потомок благородного рода, чей веселый жизнерадостный вид не в силах отменить его неизлечимое бесплодие. Стоит отдать должное беспокойно-снежному мягкотелому недоростку – он показал себя гостеприимным хозяином: сведя их и ни словом не обмолвившись о своем пороке, он полторы недели не отходил от их изголовья.
Она встретила его в новом, шелковом, струящимся платье из веселенького материала, в котором он желал видеть ее, чтобы гладить и раздевать, и он, восхищенный, тут же огладил ее и раздел. Никогда еще он не был так одержим ею, как в тот раз. Это было нечто феерическое – одно сплошное неукротимое восстание рабов под управлением Спартака, точнее, восстание его Спартака за право быть господином ее рабыни. В их распоряжении кроме двух выходных оставались только вечера, и он пользовался малейшей возможностью, чтобы заняться любовью. Дошло до того, что он домогался ее, невзирая на ее мать, смотревшую в это время в соседней комнате телевизор.
Сначала она, испытывая неподдельный испуг, не давалась – хотя, что такого сделала бы мать с двадцатилетней дочерью, если бы узнала? Ровным счетом ничего. Да и была ли она настолько несведуща, как казалась? В конце концов, презрев ради любви приличия, Алла Сергеевна уступила его умоляющим глазам и даже обнаружила в затаенном дыхании и судорожной оглядке на дверь особое острое волнение.
Обеспечив себе задвижкой торопливую возможность одернуть одежду и вернуть лицам пунцовую непринужденность, они включали проигрыватель и, создав пятой симфонией Бетховена иллюзию культурного и благопристойного досуга, второпях, по-воровски, стоя, сидя или другим приспущенным образом исполняли тему любви, не стесняясь бестактным контрапунктом своих инструментов перечить судьбе. Легко представить, что они исполняли, когда оставались одни.
Это теперь Алла Сергеевна знает: то, что она тогда приняла у него за избыток любовной энергии, оказалось прощанием. Сашка изводил напоследок ее и себя, да так что после каждого забега они напоминали загнанных лошадей.
«Санечка, какой ты у меня сладкий…» – не в силах пошевелиться лепетала она, рассчитывая облагородить их прозаичную животную испарину возвышенным диалогом душ. Но он, не желая углубляться в цветущий сад ее души, принуждал ее снова и снова, и она, изнуренная очередным натужным марафоном (заплывом, если судить по лужам пота, в которых они плавали), переставала испытывать удовольствие, цепенела под ним и, терпеливо перенося его необыкновенное затяжное усердие, с удивлением обнаруживала, что любовные утехи могут утомлять и раздражать.
Кто знает, с какой целью устроил он эту разнузданную оргию: то ли из желания запастись ее ароматом, пропитаться ее пóтом, запомнить на всю оставшуюся жизнь ее тело или, напротив, довести ее и свои ощущения до отвращения, чтобы притупить им боль будущего расставания.
Потом, уже задним числом она разглядела в его поведении то, чему не придала тогда значения: непривычную для него тень беспокойного смущения, этакую раненую щепетильность. Словно он переживал, что так бурно и беззаветно изменял с ней своей будущей московской невесте, которую к тому времени уже присмотрел. Иначе чем объяснить беспорядочные перепады его настроения, принятые ею за переживания по поводу неких неприятностей.
«У тебя что-нибудь случилось?» – проницательно спрашивала она, заглядывая ему в глаза.
«Нет, нет, все в порядке!» – отвечал он, торопясь спрятать ее кареглазое сочувствие у себя на груди.