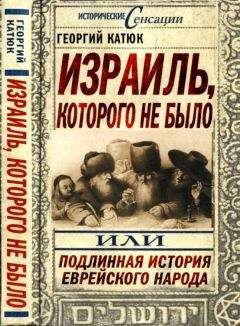Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
Теперь вот он меня молча утешал: «Ну, мой милый, ну мой сладкий, ну потерпи немного!»
И все же – что случилось с Галкой? И в голосе какое-то отчаянье, как будто она не меня гонит, а самое себя. Ладно, позвоню в понедельник днем, когда она будет на работе. Поговорю с Михаилом Романовичем, может, всё и выяснится.
Мне безумно захотелось курить. Тупо повертев некоторое время в руках пустую пачку из-под «Эл-эм лайт», я вдруг осознал, что магазин закрыт, а что я до шабата курить буду – неизвестно. Я выскочил на улице в надежде у кого-нибудь стрельнуть, впрочем, почти беспочвенной, потому что на все поселение курят полтора человека. И тут… Знаете, когда моему сыну было три года, он по аналогии с «как назло» говорил «как на добро». Так вот «как на добро» Шалом в своей «Субару».
– Шалом, есть сигарета?
Шалом, под моим чутким руководством изучающий русский язык, решает, что сигарету я должен отработать, и вообще сейчас самое время потренировать диалогическую речь.
– Ты просишь сыгарэту.
– Да.
– Ты хочешь курыт.
– Да, да, хочу! (Угостишь ты меня, наконец?)
– Ты отшен хочеш курыт. (Шалом в восторге от своих языковых познаний.)
– Очень, очень хочу!
– Нэту!
Я плюнул и вернулся домой. Настроение окончательно испортилось, к тому же вспомнились последние разговоры с сыном. И в мой приезд, и по телефону. Нехорошие разговоры. Рассказы взахлеб о школе. Постоянное «У нас в России», «Вы там в своем Израиле…»
А когда я прокряхтел – «Но ведь и ты два года назад собирался в Израиль», ох какое молчание наступило на целую минуту, в конце которой он промямлил: «Да».
С тех пор это «да» и есть та ниточка, которая связывает меня с жизнью. Что ж, как сказали авторы бессмертного фильма, доживем до понедельника.
* * *Понедельник, как известно, начинается в субботу. А суббота, что гораздо менее известно, начинается с пятничной минхи – дневной молитвы. На минху я пошел не в центральную ишувскую синагогу, а в маленькую, которая поближе к дому.
Там нас ждало новшество. К деревянным лакированным планкам, бегущим вдоль белых стен, были привинчены белые пластмассовые зажимы с пружинами, рассчитанные как раз на то, чтобы прихватить дуло «эм-шестнадцать». Теперь всем, у кого он есть, а есть он решительно у всех, за исключением тех, кто ходит с тяжеленным, хотя и более компактным «узи», не было необходимости класть эту бандуру на пол, так что пол начинал походить на памятную с дней моего советского детства школьную площадку для сбора металлолома. Достаточно было просто прислонить оружие к стене, прихватив дуло этим самым зажимом. Что я и сделал.
Минха прошла как-то на автомате, извините за игру слов, мои мысли вконец распоясались, мозги были не здесь, а в Москве.
Шалом, стоящий недалеко от меня, напротив, весь ушел в молитву. Он, зажмурив глаза, морщился, словно от сильной боли и, шевеля губами, рассказывал Хозяину обо всем, что его переполняло.
Затем мы запели «Едит нефеш» – объяснение еврея в любви к Б-гу.
«Любовью к Тебе
душа моя вновь полна,
Пусть исцелится
дыханьем твоим она.
Светоч Вселенной,
душу мою излечи.
Пусть на нее
прольются твои лучи»
Когда дошло до «Леха доди», меня ждал приятный сюрприз – ее запели на ту нечасто звучащую чарующую мелодию, под которую прошло мое пятнадцатилетней давности возвращение к своему Б-гу, к своему народу, к себе. Я прикрыл глаза и улетел в ту квартиру на «Кировской», где за субботним столом впервые ее услышал. Исчезли белые стены синагоги, вместо них развернулись темно-красные обои, по которым ползли золотые змейки узора. Уплыла из-под ног разлинованная крапчатая плитка пола, к моим подошвам прижался паркет, по которому рассыпались блики от люстры и торшера, и рядом со мной вырос кудрявый беленький Михаил Романыч с вечно вытаращенными удивленными глазами.
«Леха доди ликрат кала,
Пеней шабат некабела»
И к тому времени, как началась собственно вечерняя молитва, я уже окончательно отрешился и воспарил. Я стоял, шепча: «Ты освятил Седьмой День ради Имени Своего; в нем цель создания неба и земли. Благословил его более других дней недели и освятил больше, чем другие времена» Окна были распахнуты, и горный воздух, сквозняком кружившийся под потолком синагоги, холодным крылом трепал мне затылок и плечи.
За девятнадцать дней до. 29 сивана. (8 июня). 20.30
Крылья тени трепетали за спиною Шалома, когда он, прикрыв глаза, очень при этом, напоминая тетерева на току, как я его себе представляю (никогда не видел тетерева на току), благословлял детей. Это было похоже на некий заранее отрепетированный танец – сын или дочка соскакивали со стула, подбегали к папе, доходя ему, сидящему, в лучшем случае до плеча; его лицо – лицо большой птицы – приобретало выражение какой-то беззащитной нежности, он возлагал ребенку ладони на голову и нараспев произносил – если это был сын: «Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и Менаше», а если дочка – «Да уподобит тебя Б-г Саре, Ривке, Рахели и Лее» и в заключение пел тем и другим: «Да благословит тебя Г-сподь и да будет благоволить к тебе Г-сподь и да освятит Господь лицо твое и да пошлет тебе мир!» И, естественно, целовал очередную макушку. Вспомнилось сказанное кем-то: « Аидише маме – это что! Вот еврейский отец – это да!» Затем он начал читать кидуш . Струйки красного вина переливались через край золотистого бокала, на котором сверкали барельефом две виноградные грозди, и красовалась надпись «Боре при агефен» – «Благословен сотворивший гроздь винограда». А когда зазвучало «ибо избрал Ты нас и освятил среди всех народов, и святую субботу свою по любви и мудрой воле твоей дал нам в наследие», при этих словах я «поплыл».
И первые сорок лет моей жизни, не освещенные смыслом, но милые, как найденные среди старых вещей обшарпанные игрушки твоего детства, и озарение, которое началось той ночью под Москвой и, в конце концов, привело меня в горы Самарии, и мой Ишув – в какое бы время суток я сюда ни приезжал, даже если среди глубокой ночи, я говорю: «Доброе утро», – и наши «шомронские» пацаны, которые вряд ли нашли бы общий язык и со мной, каким я был в их возрасте, и с Михаилом Романовичем, каким он будет в их возрасте, если Б-г не перенесет его сюда, и Цвика, мой чудесный Цвика, – «Мама, мама, что я буду делать?» – Цвика, чьего ноготка не стоят все гуманисты и политики, своей глупостью и подлостью подготовившие его убийство, всё, всё, с чем я хотя бы раз в жизни пересекся – всё вдруг встало на свои места, всё заговорило, запело, и так же резко затихло. Вспышка, а затем мир вновь стал обычным.
По белой глади скатерти плыли флотилии закусок, нежно зеленело авокадо, чернели на блюдцах грибочки с пупочками, благоухала измельченная индюшачья печенка. Во главе стола сидел Шалом, я, как почетный гость, рядом с ним, дальше тянулись многочисленные детишки, а напротив, как бы лицом к Шалому, сидела его жена, Сарра. Мелюзга трогательно друг за другом ухаживала, и тайком поглядывала на родителей – ну похвалите!
Погодите, я ведь вас еще толком не познакомил с Шаломом, вернее, познакомил, но не представил. Итак, это амбалище под потолок, чьи рост и сила вошли в Ишуве в пословицу после следующей истории:
Как и все поселенцы, он принимал активное участие в демонстрациях против отступления с территорий. Как-то во время очередного разгона его заперли в каталажке вместе с еще восемью «нарушителями». Когда же через некоторое время менты снова зашли в камеру, они в ней не нашли никого, кроме Шалома и рава Шахаля. На вопрос окаменевших от изумления легавых: «А где же остальные?» Шалом молча показал пальцем на окошечко, сиротливо приткнувшееся под потолком.
Загадка разрешилась. Стало ясно, что Шалом устроил друзьям массовый побег, перекидав их в окно. Остались невыясненными лишь детали.
– А этот? – коп показал на рава Шахаля.
Шалом аж вскипел.
– Ну не могу же я рава – и вдруг под зад?
– А ты сам?
– Не могу же я рава бросить!
Пока я вам все это рассказывал, на сцене появилось еще одно действующее лицо, правда, эпизодическое. В разгар трапезы пришел старший сын Шалома – Моше. Он молился вместе с друзьями в другой синагоге, и у них только сейчас все закончилось. Моше быстро сделал кидуш и присоединился к нам. Между ним и следующим сыном перепад в шесть лет, так что, если младшие в этой семье еще совсем козявки, то старший, Моше, только что отбарабанил в «Цанханим» – десантных войсках. Сейчас он завербовался еще на полгода в «дувдеван», элитный спецназ, и это было главной темой разговора за столом наряду с бойней на баскетбольной площадке. От Шалома у меня, естественно, секретов нет, но я умолил его дома молчать и активно внедрять в сознание окружающих версию о подвиге Ави Турджемана. Шалом сморщился, будто проглотил что-то неаппетитное, но обещано молчал. Затем бойцы стали вспоминать минувшие дни. Шалом рассказал, как у Моше был отключен "пелефон", и он даже не знал, где его сын, но когда начали сообщать о боях в Дженине и о двадцати трех убитых, он почувствовал, что Моше – там. Так и оказалось. Моше был там, но жив и здоров.