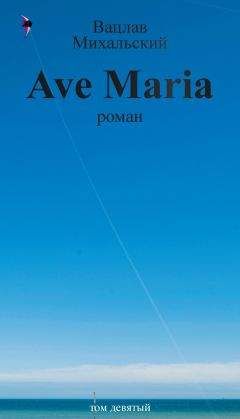Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том шестой. Для радости нужны двое
В узком маленьком кабинете врача оказалось не так затхло, как в палате и коридоре; единственное окно было наполовину открыто; слева у двери висело тусклое зеркало с облупившейся амальгамой. Мария невольно взглянула в него, но увидела что-то бесформенное, опухшее, черно-фиолетовое, с крохотными щелочками вместо глаз. Она отшатнулась.
– Не пугайся! Все у тебя будет в порядке: череп цел, нос не сломан, на теле и на лице много ушибов, ссадин, кровоподтеков, на животе касательное ножевое ранение. Ты его чувствуешь?
– Нет, – сказала Мария, с трудом разлепляя толстые губы. Она отметила, что врач так же, как и она, говорит по-чешски с акцентом, только не с русским, а с каким-то другим.
– Не чувствуешь ранку? Еще почувствуешь. Я вижу, ты не чешка? – Его увеличенные стеклами очков карие глазки навыкате остро блеснули неподдельным любопытством.
– Да, но и вы… – Мария еле ворочала языком.
– Я поляк, деточка, пан Юзеф Домбровский, – неожиданно горделиво приосанившись, представился врач. – Главное при сильном переохлаждении тела, чтобы все обошлось с легкими, остальное не так опасно. Разденься, дай я тебя осмотрю и послушаю. – Пан Юзеф закрыл окно, чтобы Марию не продуло, потом быстро осмотрел ее и долго выслушивал и выстукивал. – Одевайся, все будет хорошо. Тебя тошнит?
– Нет.
– Голова кружится?
– Да. Откройте окно. – Марии показалось, что она сейчас задохнется без свежего воздуха.
Пан Юзеф Домбровский исполнил просьбу пациентки.
– А где болит? Где ты особенно остро чувствуешь боль?
– Везде.
– Если устала, я отведу тебя в палату, а если есть силенки, ответь мне на несколько вопросов. Я заполню на тебя карточку, у нас без бумажки – ни шагу. Садись. – Он придвинул ей белый крашеный табурет. – Фамилия, имя?.. – Врач замялся. – Если не хочешь называть настоящее, можешь любое… Все-таки разбойное нападение…
И, едва он произнес эти слова, ее как будто кипятком обдало, и каждой косточкой своего тела она ощутила боль и ужас надругательства…
– То так, – перехватив мелькнувшие в щелочках ее глаз гнев и ужас, печально подтвердил доктор. – То так. Тебя спасла пуговица на блузке – острие ножа попало в пуговицу, и нож соскользнул по касательной, а били насмерть. Фамилия?
Она назвала почему-то фамилию папиного денщика – Галушко. Именно эта фамилия вдруг всплыла в памяти, и она назвалась Марией Галушко.
Пан Юзеф взял из деревянного ящичка на своем столе чистую карточку из тонкого серого картона, разграфленную типографским способом.
Мария впилась взглядом в этот серый кусочек картона, где должна была запечатлеться сейчас хотя и маленькая, но исключительно важная часть ее жизни. Пан Юзеф корявым старческим почерком разнес все по графам: фамилию, имя, год рождения, род занятий (Мария попросила его указать, что она безработная, а в Праге проездом), диагноз, предпринятые меры лечения. Мария буквально ела серую картонку глазами, и ничто не ускользнуло от ее внимания: ни малоразборчивый почерк врача, ни его фамилия и имя, отпечатанные бледно-лиловым штампиком в левом верхнем уголке карточки: «Доктор Юзеф Домбровский», ни то, как подрагивали узловатые старые пальцы, так много выстукавшие на своем веку грудных клеток и заполнившие горы таких карточек и историй болезней.
– А почему я так долго была без сознания, если вы пишете: «Сотрясение мозга не имело места»?
– О, то, деточка, психогенный шок. То так. И потом наш фельдшер дал тебе лошадиную дозу брома, но главное – психогенный шок. То так…
Дня через три лицо ее позеленело, пожелтело, чуть спала опухоль, и глаза стали побольше. Мария не прислушивалась к тому, где ей особенно больно, она была единственная ходячая в палате и с утра до ночи обихаживала своих соседок. Она помогала им, а они помогали ей заглушать чувство смертной тоски и отчаяния. Женщин, за которыми она ухаживала, никто нигде не ждал. Душная, пропахшая лекарствами палата с потеками на давным-давно не беленных стенах, железная койка со слежавшимся ватным матрацем, на котором умерли многие, своя боль и стоны соседок – вот все, что осталось им в этом последнем приюте. Появление в палате Марии стало для них глотком свежего воздуха – настоящего, а не воображаемого: Мария укутывала соседок одеялами и открывала большую форточку, которая была заколочена еще с осени. Открывала форточку, а потом закрывала ее и раскутывала страждущих женщин. Каждый день она мыла в палате полы с давно облупившейся краской, притом мыла без хлорки, как обычно это делали нянечки, да и то сказать, не мыли, а так, ширкали шваброй под кроватями.
На шестой день лицо Марии хотя все еще и оставалось в желтых и темно-серых полосах, но отеки настолько спали, что оно приняло почти правильную форму. В этот день и явились к ней гости. Слава богу, пан Юзеф не пустил их в палату, а велел подождать на крыльце с черного хода. В больнице доживали свой век бездомные или те, от которых все отказались, так что посетители были здесь в диковинку. В последние дни наступила наконец долгожданная весна и так сильно потеплело, что пан Юзеф не боялся простудить свою больную.
– К тебе пришли, – сказал он, заглянув в палату.
Мария не поняла, что он обращается к ней.
– Мария, к тебе пришли, – повторил пан Юзеф.
Раньше Мария слышала, как люди говорили о себе: «я окаменел» или «я окаменела». Слышать-то слышала, но была уверена, что это просто фигура речи. Оказывается, никакая ни фигура, а голая правда. Мария окаменела. «Какой кошмар, наверно, Иржик! Сейчас он меня увидит! Нет, это невозможно!» – а тем временем пан Домбровский уже вел ее по коридору. Перед выходом она уперлась:
– Не пойду! У меня никого нет! Мне никто не нужен!
– Они говорят, что ты их кузина. Очень приятные юноша и девочка, по всему видно, из хороших семей.
Боже, какая еще девочка?!
– Я не пойду!
– Хорошо, я скажу, что ты не хочешь их видеть, я тебя понимаю… – Старик ободряюще взглянул на нее и сочувственно улыбнулся.
– Остановитесь. Я скажу все сама!
Не помня себя, Мария вышла на ступени больничного крыльца.
Иржи и Идочка стояли рядышком и обалдело улыбались.
– Мы нашли тебя! – подпрыгнула Идочка. Рядом с Иржи она вся светилась от счастья, и это не ускользнуло от внимания Марии и определило ее, Идочкину, дальнейшую судьбу.
Иржи молчал. К тому времени он уже обошел все морги, все больницы Праги, и сказать ему больше было нечего, во всяком случае, в эту минуту.
Иржи и Идочка думали, что они желанные гости, что они в радость, а Мария видела только то, как светится от счастья Идочка, а к Иржи она не испытала никакого другого чувства, кроме тяжелой неловкости, что он видит ее такой жалкой. Все это, вместе взятое, вдруг вызвало в ней странное решение: обидеть их так, чтобы у них никогда больше не возникало желания видеть ее.
– Я ненавижу вас! Вон из моего… из моей больницы! Вон! – некрасиво скривив и без того перекошенное лицо, прокричала Мария. – Вон! И не приближайтесь ко мне никогда! Никогда! – закончила Мария на хрипе.
Лицо Иржика напряглось, рот приоткрылся, он понял только одно: Мария не шутит, и это не истерика, а ее воля.
– Ма… Ма… – со слезами на глазах пыталась сказать «Мария» Идочка и даже двинулась к своей учительнице, но тут Иржи перехватил ее руку и быстро повел за собой с больничного двора.
Боже мой, если бы она могла плакать, как бы она сейчас зарыдала! А слез не было, и в горле стоял горячий, сухой, удушающий ком. Но она знала главное: теперь Идочка точно выйдет замуж за Иржика, и пусть они будут счастливы!
Пан Юзеф дал ей брому. Много. Предельно много. Она добралась до палаты, упала на койку и уснула…
На десятый день пребывания в больнице пан Юзеф снял швы с неглубокой, но длинной ранки на животе и сказал, что пора на выписку.
На прощание он подарил ей надколотую перламутровую пуговицу с ее разодранной в клочья блузки. Мария троекратно по-русски расцеловала пана Домбровского и вылетела из больницы, словно на крыльях. Ей было плевать на синяки, на убогое ситцевое платьице из больничной каптерки, на тянущую боль в ранке на животе и на шум в голове. Ей было на все плевать, даже на то, как жестоко обидела она Иржика и Идочку, которые стремились к ней всей душой.
Она была счастлива!
– Эй, ты где, сестренка, ты не с нами? – вывела ее из полузабытья нахлынувших воспоминаний Николь. – Так что, решено? Завтра на яхте?
– Решено! – подтвердила Мария. А на губах ее все еще блуждала полуулыбка, совсем не относящаяся ни к будущей поездке на яхте, ни к каменным стенам ее нового дома, ни к синеве застывшего в безветрии Тунисского залива, ни к полуобвалившимся красноватым термам римского императора Антонина Пия, где мелькали знакомые фигурки мсье Пиккара и его подручных мальчишек Али и Махмуда.
XVКогда принц Иса через неделю пришел в банк господина Хаджибека, в приемной перед кабинетом Марии работала Уля. Она сидела за высокой машинкой Remington и неумело перестукивала двумя пальцами письмо в Лионский кредит, которое велела перепечатать Мария. Машинка была новенькая, с тугой клавиатурой, и Уля осваивала ее, не видя и не слыша ничего вокруг. Вдруг она почувствовала, что на нее смотрят. Уля подняла голову. На пороге стояло что-то диковинное – высокое, прямоугольное, разноцветное. Она даже и не сразу сообразила, что перед ней человек, пока не встретилась с ним глазами. Двухметровый верзила почти доставал притолоку двери. Голова его была обмотана легкой фиолетовой тканью, а на теле странные прямоугольные рубахи, надетые одна на другую: внизу ниспадающая на широкие голубые шаровары белая рубаха, сверху чуть покороче синяя, а на ней еще и третья из полосок фиолетовой ткани, с большой желтой вышивкой на груди, составленной из наложенных друг на друга треугольников, квадратов, кругов, ромбов, трапеций и даже маленького шестиугольника. Бедра явившегося чуда-юда обхватывали полоски ткани, белые, красные, синие, сплетавшиеся в широкий пояс с зелеными кистями. Картина была и яркая, и устрашающая одновременно.