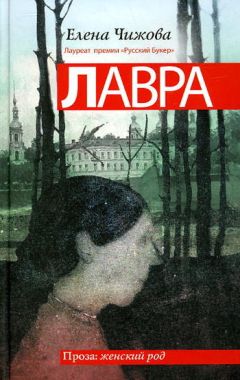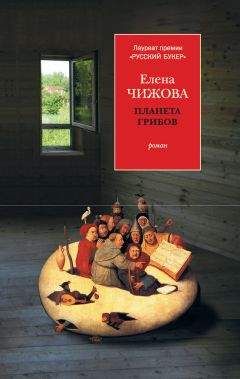Елена Чижова - Неприкаянный дом (сборник)
Темная радость поднималась со дна. Она разливалась все шире, дрожала, как донный ил. «И что, никакой надежды?» – я спросила высокомерно. «Есть. Самая последняя – на них , – Митя смотрел беззащитно. – Тогда они намекнули сами: хотят от меня избавиться. В конце концов, это их обязанность – чистить ряды». – «У тех, кто живет здесь, единственная обязанность – ненавидеть. Помнишь? А я запомнила. Это – твои слова». – «И – что?» – Митя слушал, не понимая. «А то, что они тоже живут здесь».
Поток машин двигался в сторону площади узкой полосой. Тысячи полос пересекали город из конца в конец. В зареве октябрьского вечера я думала о своем единственном желании – вернуться в бабкину комнату и лечь.
«Скоро я стану старухой». – «Не кокетничай, – Митя поморщился, – в твоем исполнении разговоры о старости – безвкусица, впрочем, никогда ты не отличалась безупречным вкусом». Я кивнула и пошла прочь. Если бы сейчас за моей спиной раздался взрыв, все равно я бы не обернулась.
Я шла и видела город, изрезанный огненными полосами. Кто-то невидимый, управляющий светофорами, пускал и тормозил потоки машин. Тьма укрывала дома, заливала зияющие подворотни. Опавшие пласты штукатурки крошились под ногами.
«Дурак, зря надеется, – я чувствовала холод. – На этих ни в чем нельзя полагаться». Холод лез в рукава. Никуда не выпустят, плакал его бестселлер. Я представила себе цветастую книжку, которой не будет. Нелепо и глупо надеяться на сбои в их отлаженном механизме. Хотели бы выслать, не стали бы три месяца тянуть.
Так – я остановилась, понимая: никакого обещания не было. Они ничего не обещали. Митя надеялся на обещание, которое выдумал сам.
Теперь не убивают, позволяют жить. Долго живут одни старухи, до самой смерти благодарные за все . «Старые ведьмы!» – я остановилась. Ведьма, колдовавшая над котлом, в котором шипела свежая кровь, потребовала русалочий язык. За это она обещала свою помощь. Лично мне ничего не надо. А значит, не за что и платить. «Полно, – я сказала. – Во-первых, я – не русалка. А во-вторых, мы не в Гефсиманском саду».
Оглянувшись, я заметила, что подхожу к Юсуповскому саду. За оградой уже виднелся дощатый павильон. Последние отдыхающие собирались к распахнутым воротам. На Садовую они выходили медленно, как будто шли под водой. Темные кроны колыхались осенними листьями. Я вошла и, свернув в аллею, села на скамью.
Под толщей воды сиделось тепло и покойно. Закрыв глаза, я думала о сестрах-русалочках, которым нет дела до человечьих страстей. Высоко над головой, собираясь стайкой, они резвились в кронах деревьев. Где-то здесь, за кустами, скрывалась клумба, украшенная обломком. Глазами я обшаривала газоны, надеясь найти. Голова юного принца откололась от туловища во время бури. Я помнила, будто украшала сама.
Беловатый бюст стоял у самого павильона. Ко мне он был повернут затылком. Поникшие цветы опоясывали тумбу. Обойдя, я села напротив.
Белые глаза того, кто – крашенный серебрянкой – стоял на Почаевской площади, глядели в пустоту.
«Если Митя на них надеется, значит, ему придется просить у этого », – я не успела усмехнуться. От пруда потянуло гнилостью. Тошнотворный запах бархатцев стлался по земле. Я услышала хруст гравия. Три грузовика, похожие на фургоны, медленно двигались по аллее. Объезжая деревянный павильон, они направлялись к площадке, украшенной обрубком. Грузовики доползли до клумбы и, развернувшись к ограде, выпростали толстые кишки.
«Нет ничего такого… ничего такого… что я не знала заранее…» Тошнотворная жижа урчала в недрах фургонов. «Там, в Почаеве, их много, много людей…» В саду никого не было. Перед глазами, белевшими под защитой говновозок , я сидела одна. Застонав от позорного бессилия, вскочила и кинулась прочь.
Тяжелое урчание собиралось за спиной. Вперед, по Садовой, я бежала не останавливаясь, чувствуя, как оно пронизывает мою плоть. У Крюкова канала остановилась, прислушиваясь. Кажется, стихло.
Внизу, у ближних быков, вскипала вода. Под котлом, полным тошнотворной мерзости, горел их вечный огонь. Белый пар подымался от варева, уходил в открытое небо. Вокруг, шевеля в котле баграми, они стояли и помешивали вар, пробуя на вязкость. Только у них, жертвуя последним, нужно было просить – в обмен. Митино лицо, иссеченное морщинами, поднималось ко мне из глубины. Что ни попросишь, обманут. Он смотрел на меня больными глазами.
Отшатнувшись от перил, я пошла быстрым шагом. Над пустым городом, по которому я ступала, поднимались тусклые Никольские купола. Они висели, не опираясь на барабаны, словно мираж среди пустыни, исчерченной горящими каемками изъезженных полос. Содрогаясь от ужаса, я раздвигала кукурузные стебли: таким, как я, за так не дадут. Не было ничего, кроме мнимой и жалкой жизни, что я, вознося мольбу, могла предложить.
Чуя за спиной урчание говновозок , я открыла дверь и вошла в притвор. Служба еще не начиналась. Высокий монотонный голос бормотал у канона. Почти на ощупь, ничего не видя вокруг, я пошла вперед и встала у лика.
«Господи, – я обратилась исчезающим голосом, – вот я стою и говорю пред Тобой. Нет у меня ничего, что можно отдать Тебе, попросив взамен. Нет у меня ни дома, нет и детей, которых Ты, когда родятся, накажешь. Нету и веры, по которой, как они говорят, дается. Душа моя не слушается таинств, в которых Твоя надежда. Сюда я пришла потому, что там, под воротами, уже стоят машины с толстыми шлангами. Стоят и дожидаются меня. Там, где Ты не бываешь, можно просить только у них…» Лик, вознесенный надо мною, оставался недвижным.
«Господи, – я начала снова, уже зная, что предложу. – Я солгала Тебе, Господи, потому что есть одно-единственное, то, что я умею расслышать, но еще не решаюсь написать. Оно дрожит во мне, пронзает кончики пальцев. Я слышу слова, в которых соединяются земля и небо. И это я отдаю Тебе, чтобы они отпустили Митю».
Он смотрел вперед, дальше меня, туда, где под самым притвором они разворачивали шланги. Я оглянулась и увидела пустое пространство, не заполненное людьми. Утробное рычание фургонов доносилось сквозь высокие двери.
«Господи, – я сказала. – Ты не должен бояться. Здесь всегда страшно. Просто надо привыкнуть, я же привыкла». Бледный лик, обращенный к двери, дрогнул. «Ничего, – я сказала, – Господи. Просто люди еще не успели, но я-то все-таки есть».
Неловко, подогнув колени, я опустилась на каменный пол и легла крестом. Лицом в камень, не сводя над головой рук, я лежала ровно и недвижно, пока они, направляя шланги, поливали вонючими струями небо и землю.
Время женщин
Моим бабушкам
Мое первое воспоминание: снег… Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать…
В детстве я не умела разговаривать. Мама водила по врачам, показывала разным специалистам, но все без толку: причины так и не нашли. Лет до семи я молчала, а потом заговорила, хоть сама этого не помню. Бабушки тоже не запомнили – даже самых первых слов. Конечно, я их спрашивала, а они отвечали, что я всегда все понимала и рисовала картинки – вот им и казалось, будто я с ними разговариваю. Привыкли отвечать за меня. Сами спросят, сами и ответят… Раньше мои картинки лежали в коробке. Жаль, что они не сохранились: тогда я бы все вспомнила. А так не помню. Даже маминого лица.
Бабушка Гликерия говорила, что у нас была фотография, маленькая, на паспорт, а потом ее потеряли, когда заказывали портрет. Железный, для кладбища. Он тоже пропал. Может быть, отчим так и не собрался съездить, а Зинаида выбросила – как и мои картинки.
Я еще долго не любила зиму: тревожилась, когда падал снег. Думала о маме… Мне казалось, ей очень холодно – в летнем платье… Потом это прошло, но тревога осталась, словно в детстве, которое стерлось из памяти, было что-то страшное, о чем мне уже не узнать…
I. Мать
Лук крошу, а сама киваю: старухам виднее – пора так пора. А чего скажешь? Строгие. Где уж мне против них?..
Прежде-то нажилась в общежитии, в тесноте, да не в обиде – комната на восемь коек. А нынче – вольно… Спасибо месткомовским. Зоя Ивановна так и сказала: «Чего уж теперь… Разве дите виновато? Родила так родила – обратно не пихнешь. У нас ведь как? Мать всему голова: и напоит, и накормит. Ну и что – без мужа? Нынче и таким помощь и почет. У Сытина, мастера с шестого, прибавление: двое у них теперь. Значит, отдельная двухкомнатная полагается. Вот и вселяйся на их место».