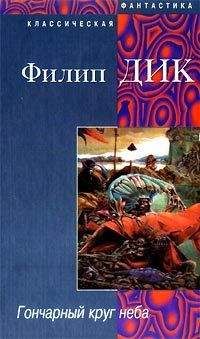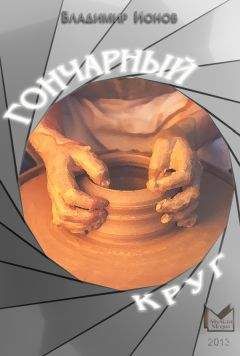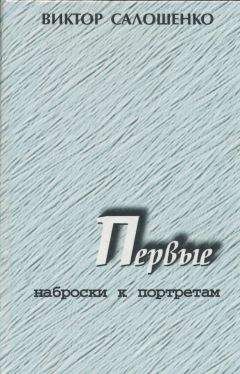Аслан Кушу - Гончарный круг (сборник)
– Живут ли в Аджепсукае Хатуковы? – задумчиво, издалека того мира, куда ушел по их вине, спросил Сайме.
– Живут, но не те, которых ты помнишь. Их дети, – уточнил Неджет, – Из пяти братьев в живых не осталось никого. Трех, сказывают, ты порешил, двух других-наши, когда немцев с гор обратно погнали.
– Их-то за что?
– Они топтали вождя.
– Как это? – не понял Сайме.
– После отступления наших, стараясь выслужиться перед фашистами, Хатуковы стянули с постамента у сельсовета бюст Ленина и всю оккупацию использовали, как ступеньку в свой дом. Когда же наши вернулись, они потащили памятник на место. Нурбий, тот, что младше Каплана, пытался уверить на допросе следователя, что они топтали вождя не по злому умыслу, а для отвода глаз, чтобы сохранить его. Ему не поверили и расстреляли вместе с братом.
– Вот оно как вышло! – воскликнул Сайме и, в очередной раз желая доказать, что стал жертвой обстоятельств, отрешенно произнес:
– Все равно я не хотел убивать их.
– Поди разбери вас через столько лет! – отмахнулся Неджет.
– Разве ты не веришь мне?
– Не надо об этом. Для тебя достаточно, что я буду молчать.
– Почему?
– Не имеет смысла.
Неджет повернулся и пошел. Окликнув его, Сайме расстегнул пиджак, снял спрятанный под ним пояс Саусоруко, попросил:
– Передай его старшей женщине в нашем роду.
– А вот этого я сделать не могу, – развел руками уходящий, – не живут более в Аджепсукае Апшемафовы.
– Как? Ведь не одна семья была, – вздрогнул Джордж.
– Кто в войну погиб, кто от голода. Жила до недавних пор одна старушка, да и ту в прошлом году схоронили, – ответил Неджет и ушел.
Сайме растерянно опустился на кряж и едва удержался на нем. Дыхание сперло, голова пошла кругом. Ветер оторвал с боярышника невдалеке спутавшийся с ним куст перекати-поля, и он покатился к нему, вырастая в воспаленном воображении до невероятных размеров. Сайме шарахнулся. Потом куст уменьшился с той же стремительностью, с которой рос, зацепился за ногу. Подозревая с ужасом, что в перекати-поле необратимо стекает его душа, он стал лихорадочно отбиваться от него… Впрочем, все эти движения Сайме делал только мысленно, ибо едва опустился на кряж, похолодели ноги, а сам он стал сумрачен и неподвижен, как буддийский идол в степи, на перекрестке ветров…
Намиловавшись с той, кого обожал, – родиной, он умер легко, без особых мук. Аджепсукайцы и ученые стали искать его, вышли за аул, обступили тело.
– Карл! Ларсен! Что с тобой? – трепал за плечо Саймса Шерванидзе.
– Не Ларсен это и не Карл, – к удивлению всех остановил его Неджет, – а Рашид Апшемафов, наш земляк.
Потом он повернулся к мужчине в сером пиджаке, сказал:
– Открывай ворота, Махил, горе пришло в ваш дом, Рашид – твой двоюродный дядя по матери.
Плач кукушки
Эту непридуманную историю много лет в нижнекубанских адыгских аулах передавали из уст в уста. И каждый ее, как прочитанную книгу, пересказывал по-своему. Одни кляли главную героиню Фариду за коварство, которым она погубила своего мужа, и преклонялись перед благородством их сына, что скрасил ее старость. Другие наоборот – превозносили эту женщину, восторгаясь величием ее духа, сумевшую отстоять свое право на любовь, при этом, не умаляя достоинство сына, но и не возвышая его, который, по их мнению, всего лишь на всего исполнил долг перед матерью, даровавшей ему самое бесценное на земле – жизнь. Вот такие толки были вокруг этой непридуманной истории, мой читатель, ибо каждый был волен рассматривать ее и судить об обстоятельствах, породивших эту трагедию, как хотел.
Ильяс Чигунов, известный на всю страну своими новаторскими подходами в педагогике, спешил домой из Москвы, где он был на Всесоюзной учительской конференции. Причиной поспешного отъезда из столицы для него стала телеграмма супруги Аминет. «Маме совсем плохо, – писала она. – Ждем твоего возвращения с нетерпением». За окном такси, нанятого в аэропорту Краснодара, мелькали знакомые и родные пейзажи, сменяясь одни другими, но это, как бывало ранее, не радовало его. Он знал, что мать безнадежно больна и, как бы лихо не гнал водитель такси, ему казалось, что тот едет слишком медленно. Он боялся не успеть…
После гибели отца мать во второй раз вышла замуж. Ильяса же все эти годы растили и воспитывали дедушка и бабушка по отцу. Он никогда не видел отца, так как был всего лишь годовалым ребенком, когда тот погиб. Он не знал мать, потому что она никогда не приходила к нему, хотя и жила в соседнем ауле. Когда он чуть подрос, то стал часто сбегать от дедушки с бабушкой в тот аул и, затаившись в зарослях акации, с теплотой, обволакивавшей его маленькое сердечко, наблюдал за матерью, управлявшейся по двору. Как-то за этим делом его и застали сверстники из того аула и начали бить чужака, занявшего их место игр. На шум и крики прибежала мать и детвора разлетелась, как напуганная кем-то стайка воробьев, а она подняла его с земли, вытерла разбитый нос испросила: «Чей ты, мальчик?» Как же ему хотелось крикнуть тогда на весь мир: «Твой я, мамочка, твой!» – но внезапное удушье не дало сделать этого, и он горько-горько заплакал… Она прижала его к себе, вытерла слезы, успокоила, привела во двор и накормила горячим борщом со сдобными пышками. «Иди, – погладила она его по вихрам у калитки, после того как он поел, – и больше не попадайся этим забиякам и драчунам».
Домой он не шел, а летел, словно на крыльях, сколько радости, ведь он первый раз пообщался с мамой и она даже накормила его!..
Шли годы, а он ходил и ходил, и смотрел на мать уже не с того места, а с другого, облюбованного им на пригорке над ее домом, в зарослях колючего терновника. Ходил в стужу, в зной, но не частил, чтобы не мозолить людям глаза, бывало один, а то и два раза в месяц, а до этого времени, пребывая в нетерпение и тоске.
Как-то соседка-старушка Ханифа сказала ему, что каждый ребенок связан со своей матерью невидимыми нитями. Ильяс испугался тогда, решив, что она знает его тайну, но потом, посмотрев в ее глаза, которые, как показалось ему, были в полном неведении о ней, успокоился и подумал: «Если кто-то и связан с матерью нитями, не я это. Я – резиновыми жгутами, чем больше проходит лет, или дальше отхожу он нее, тем они сильнее тянут обратно».
Ему было уже шестнадцать и он не знал, сколько это еще может продолжаться, пока один случаи в истории его хождений к матери не поставил в ней точку. Связан он был опять – таки со сверстниками в том ауле. Как-то по приходу они окружили его.
– Кто ты и к кому шастаешь в наш аул? – спросил Ильяса один из них – розовощекий, голубоглазый и весьма ухоженный.
– Не твое дело! – отрезал он.
– Ходят тут всякие, – фыркнул тот, – а потом велосипеды пропадают.
Кровью облилось сердце Ильяса – его, который приходит к матери, чтобы хоть краем глазка взглянуть на нее, этот намек на воровство, привел в бешенство. К тому времени он уже был рослым и крепким парнем, а потому одним ударом в подбородок свалил обидчика, сел на него, прижал к земле и принялся бить по лицу с такими яростью и жестокостью, что другие сверстники от этого застыли, словно окаменелые.
– И откуда же в тебе столько злобы! – крикнул кто-то за спиной Ильяса и, ухватив его за шиворот сильной рукой, поднял с розовощекого.
Откуда в нем была эта озлобленность? Теперь с высоты своего возраста Ильяс Чигунов понимал, что мать была для него чем-то вроде бальзама на душу, который утолял его сиротскую тоску, снимал с нее боль. Потом же, когда он уходил от нее, они неминуемо возвращались и терзали его душу, и так до озлобления. А тут еще этот розовощекий дорогу преградил – сытый и довольный своей жизнью, с маменькой и папенькой, наверное, которых Ильяс был лишен, да еще с недвусмысленными намеками на воровство. В общем, под горячую руку попался.
– Так откуда в тебе столько злобы? – повторил вопрос, по-прежнему державший за шиворот Ильяса крепкий мужчина лет пятидесяти.
Ильяс не ответил.
– Хазрет Шихамович, – пожаловался ему один из мальчишек, – он первым драться начал, когда Руслан только спросил у него – кто он и к кому приходит в наш аул.
– Я не крал ваших велосипедов! – выпалил Ильяс и негодование скорее на себя, чем на сверстников, обуяло его. Он столько лет тянулся к материнскому теплу, не решаясь к ней, бросившей его, как не облизанного щенка, подойти, и она тоже хороша – за все эти годы не выбрала времени проведать его хоть один раз. Ильяс оскорбился в лучших чувствах, что-то большое и светлое стало покидать его измочаленную душу и то была вера, вера в мать и радужное будущее, что он по наивности связывал с ней. «Наверное, порвались нити, о которых говорила Ханифа» – решил он тогда, и, вырвавшись из рук Хазрета Шихамовича, ушел из того аула, как казалось ему, навсегда.
Однако время залечило и этот надрыв. В восемнадцать Ильяс поступил в педагогический институт в далеком городе и в нем не раз ловил себя на мысли, что победы в учебе и спорте он посвящает самому дорогому человеку на свете-маме, что всегда незримо присутствовала рядом.