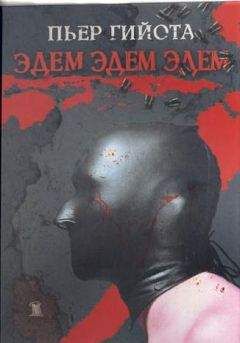Илья Бояшов - Эдем
Дело паучьей техники: сразу же прихватил жертву за горло и поставил перед фактом, или поначалу был диалог, как некогда еще с одной любопытной безмозглой рыбой – суть не важно, но Ева попалась.
И ворота были опять закрыты.
И кустарник щетинился.
Прорыдавшись, она теперь вычищала носик платочком, вместившим в себя все запахи парфюмерных залов уже давно мной позабытого «Стокманна».
И, естественно, озиралась.
Ну, а дальше что, господа?
Искры, петарды, феерия, фейерверк в сразу свихнувшейся, окончательно потерявшей опору несчастной моей голове.
Хаос, броуновское движение, запустившийся мгновенно процесс…
«Благодетель» оставил нас наедине – сияющий начальник гладиаторской школы, бросивший побитому, но перспективному для дальнейшего шоу фракийцу столь значимую подачку. Прищелкивая пальцами, бормоча свою неизменную мантру о сверкающем рае, ростовщик Джафар[66] вновь отправился по делам – подправлять обезображенные поединком титанов грядки.
Ну, а я, закипевший рядом с невиданным чудом?
Запах женщины, одуряющий не хуже дубины, которой каннибалы оглушают свои жертвы, превращающий за какие-то доли секунды самого рафинированного интеллектуала в дурачка с текущей изо рта слюной! взрывающий все и вся, ее сладкий подмышечный пот! не перебиваемая едкой «шанелью», пряность шеи! волосы! грудь!
Все смешалось.
Я пал, господа.
И поднялся – волосатый, как йети, бесстыжий, словно сама природа, окончательно голый, ибо истлела одежда.
Вот в чем дело, мои благодетели – она сразу сообразила.
Упорхнули куда-то яркие тряпочки (платье, трусики, лифчик).
Улетели босоножки.
Что же дальше?
Везувий! Этна! Настоящий Эйяфьятлайокудль[67]! Огнедышащее жерло с брызжущей магмой, лавой и еще черт-те чем – я совсем, друзья, обезумел!
Нет, конечно, она порыдала после моего славного извержения о своем беспечном прошлом над белоснежной нимфеей, над калами и эйхорнией толстоножковой (оставленные там, за стенами мама, папа; бой-френд; стеклянный куб вездесущего «Стокманна», примерочные кабинки которого засасывают в себя не хуже баден-баденского казино; занавешенный девичьими фенечками розовый юркий автомобильчик, от кресел до гламурной приборной доски насквозь пропахший все той же неистребимой «шанелью»; офисная дыра где-нибудь на сто тридцать пятом этаже, в которой совершенно бездумной секретаршей резвилась эта лань из проволоки), она еще поскулила щенком, уткнувшись в живот примата (то есть в мой, в мой живот, благодетели!).
Повздыхала, помаялась…
Вновь прочистила носик платочком.
И – чтоб провалиться мне сквозь чернозем, сквозь все барсучьи и змеиные норы до самого обиталища нечисти, до самого ее сокровенного штаба в центре земного ядра – как ни в чем не бывало принялась обживаться.
Вы мне скажете: невозможно.
Соглашусь – невероятно.
Я-то, дурень, боролся с рабством – я плевался, царапался, выл. Несмотря на тотальный кошмар служения распроклятому садоводству, десять, а вполне, быть может, и все двадцать лет этой серой каторги не отбили моего стремления вырваться – и я все же «хотя бы пробовал», как несчастный бунтарь Макмёрфи[68].
Но она!
Отряхнула свои павлиньи перышки.
Обмакнула слезки платком.
Успокоилась.
И отдалась.
Ее звали…
Впрочем, какая разница! Совершенно несущественно, как ее звали: факт лишь в том, что она освоилась удивительно быстро. Не успел я моргнуть, как она уже разгуливала нагишом, оставив на себе только монисто с браслетами.
И ни слова о прошлой жизни.
Трубя маралом (брачный гон, господа, брачный гон) я тогда ни о чем не задумывался: пряность ее волос вскружила мне голову. Подобно слепому полковнику Аль Пачино[69] танцевал я посреди всего этого цветущего бреда танго – беспечное, как сама Аргентина.
Вы, надеюсь, меня поймете…
Я бежал к ней с аллеи северной.
Несся к деве с аллеи южной…
По три раза за день (не считая, голубчики, ночи!).
Я нашел способ прогнать с луга мошек и комаров (прореженный нимфейник, измельченные и рассеянные над клевером полынь, лаванда, тулимон и герань).
Я бросал и рассаду, и ведра («благодетель» только посмеивался), и плевал на поистине свинячье любопытство здешних птиц и зверушек. Надо отдать ей должное: с пылом и жаром отнеслась бывшая секретарша к своим новым служебным обязанностям – и отвечала взаимностью.
Так как прятаться было некуда, мы умяли собой весь луг – под насмешливое одобрение глазеющей местной сволочи.
Мы орали не хуже лягушек.
Хотел мучитель мой или нет, но, надо признаться, он подсунул мне истинную породу – не думая шевелиться, и вообще заниматься хоть чем-то (и не сходя при этом с ума!), уже с утра голышом валялась детка на травке, попеременно подставляя злобно плюющемуся ярилу то свои славные грудки, то мальчишечью попу.
Всякий раз, когда я ради наших утех оставлял работу, одалиска встречала меня на лугу с одним и тем же, столь распространенным в «том мире», невинно-сознательным видом превосходства безделья над всяким трудом, видом, который так умиляет мужей, еще не нюхнувших пороху.
Но как радовал меня в те дни ее канареечный ум!
«Птичка Божия» клевала салат и капусту с привычным для себя удовольствием – вот уж точно, ее проволоке (я имею в виду тонюсенькие модельные ножки) и бедрышкам в этом безмятежном аду ничего не угрожало. Неделя-вторая заточения – начались огуречные маски, натирание кожи хреном, залезание в глинистый пруд.
Детка мазалась и омоложалась – ну, а я умилялся, кретин.
И ни слова о чем-то серьезном: мы с ней словно бы сговорились – лепет, чмоки, вдохи и выдохи, всякий прочий любовный сор. Что касается дамы, то и дело по саду слышалось – «рыбка», «лапка» и «мусик-пусик» (вы бы видели, как ухмылялись, слыша подобное, высовывающиеся из всевозможных кустов циники-кролики: «Она назвала братца “рыбкой”»!). Что сказать тут и чем оправдаться!? И я ведь не отставал, выливая в мягкое девичье ушко свой словесный понос – и набрасывался на фемину, как пошлейший голливудский Кинг-Конг. Вот что творят феромоны, вот что выделывает тестостерон! Это был уже не зов, а какое-то камлание плоти. Я позабыл и про козла, и про деда. Впрочем, capreolus, вдохновивший раба на Вандею[70], уныло теперь прозябал за вязом новозеландским и являл из себя саму скорбь. Сочувствие ко мне, в очередной раз поверженному? Разумеется, нет! Дьявол всегда в восторге от хаоса. Когда хоть что-нибудь упорядочивается, он приходит в большое уныние.
Черт с ним, с хитрым рогатым арапом. О, эти дивные девичьи пальчики, о, их почти стеклянная хрупкость! Я чувствовал себя счастливым самцом гориллы, готовым восторженно лупить днем и ночью в свою барабанную грудь. Я был Полифемом[71], согласным музицировать на всех в мире флейтах. Сопящий и несуразный, словно ворочающийся в тесных багдадских кварталах американский танк, я с поистине циклопьей неуклюжестью помещал ее чудо-пальцы на своих шершавых землекопских лапищах – и ведь боялся на них даже дунуть! Тонко-мраморное совершенство (мечта Праксителя!) – они увенчаны были перламутровыми ноготками – разве к этому воплощению божественности должна была приставать здешняя грязь? Нет! Ни в коем случае я не допустил бы появления под ее ноготками земляных ободков. Даже если она бы и изъявила желание покопаться в грядках, я восстал бы тогда всем измученным плебейским существом своим – ибо невозможна никакая работа для юной беспечной куколки: пусть и холит себя, и лелеет, вся натертая манго и свеклой, с огуречной жижей на лбу – совершенная, совершенная! «муся-пуся»! «мой славный зайчик»!
Отдыхая от любовных кувырканий, начинал я экскурсию по телу моей сладкой отзывчивой девочки. От запястий ее разбегались прожилки вен, просвечивая сквозь кожу точно едва видимые из стратосферы тонкие голубоватые реки. Уходящие вглубь, они выныривали у локтевых суставов и бежали к прозрачным плечикам. Оленья шейка едва заметно пульсировала (мой обычный туда поцелуйчик). Дальше следовали подбородок, приоткрытые створки рта (томно-влажное чудо из ботокса), зубы, острые, словно у белки, и сводящий с ума язычок – ну, а далее – курносый носик, крохотная мягкая подушечка на самом его кончике (поцелуй, поцелуй, поцелуй!) и, выше, царство совершенной симметрии – глаза-блюдца, все вокруг отражающие, но, как и полагается магическим кукольным глазкам Барби, ничего в себя не впускающие. Затем в ушки-ракушки под благосклонное мурлыканье девы – она потрескивала, как ангорская кошечка, – я доносил свой восторг («муся-пуся моя», «муся-пуся») и спускался к нежным ключицам, отмечая вехи пути (щечки, носик, шея) губами распаленного Моностатоса[72]. Я готов был ее ключицы обсасывать, словно куриные косточки. Ну, а далее – деликатес, груди девы! Венчали их задорно торчащие из фиолетовых пятен восхитительные соски – отрада любовников и младенцев. Напряженные, длинные, чуткие, словно радары, эти женские кнопки твердели от первого прикосновения – а стоило нажать посильнее – мгновенно включался весь механизм. Wish You Were Here[73], друзья! Вы бы слышали этот стон! этот шепот «возьми меня», томность, дрожание, трепет, сладостное потягивание (на каждый славный сосочек по три моих поцелуя). Я спускался затем к животу, без всякого с ее стороны напряжения втянутому, и мял губами его впадину, находя прелестный пупок (двадцать пять поцелуев туда!). Господа, я спускался все ниже – к ее нежным интимным волосикам, к тиглю жизни, к основе основ. Я готов был бесконечно любоваться каждой ее родинкой на бедрах, и единственной – разрешите утонченную пошлость – ее милой природной морщинкой…