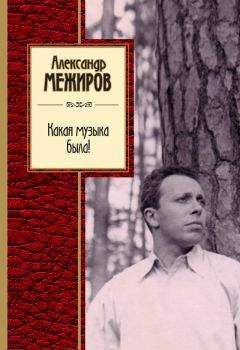Владимир Мощенко - Голоса исчезают – музыка остается
Обращаясь к читателю, способному понять его с полуслова, Гришашвили говорит, как дорого всё вчерашнее, найденное им в «старинном Тифлисе», в долгих блужданиях по древним кварталам, и по Сирачхану – легендарному винному ряду, озарённым яркими очагами былого, как он прощается с утерянным, с отнятым навеки, не уставая дивиться даже таким обычнейшим вещам, как «бурдюки в духанах, и чианурам, и чарге»[17], цеховым объединениям ремесленников – амкарам…
И если к древностям забытым
Я нежности тебе придам,
Легко поймёшь, каким магнитом
Притянут я к его вратам.
И ты поймёшь, за что нападок
Я у поэтов не избег
И силами каких догадок
Я воскрешаю прошлый век.
Не Пастернаку ли, взявшемуся за перевод, были близки эти мотивы? Не он ли во «Втором рождении», а именно в «Волнах», погружённый в стихию Грузии, писал: «Ты рядом, даль социализма. Ты скажешь – близь? – Средь тесноты, во имя жизни, где сошлись мы, – переправляй, но только ты. Ты куришься сквозь дым теорий, страна вне сплетен и клевет, как выход в свет и выход к морю, и выход в Грузию из Млет…»? Эту даль, не ставшую близью, этот новый строй, курящийся «сквозь дым теорий», ему припомнили. Критические вопли рапповцев смахивали на свистопляску, устроенную по случаю идеологического «падения» Иосифа Гришашвили. В «Литературной газете» от 23 апреля 1932 года был вынесен приговор: «“Волны“ – это окончательная формулировка всего пройденного поэтом пути. И если вчера ещё Пастернак мог быть попутчиком, то сегодня в наших условиях классовой борьбы он перестаёт быть попутчиком и превращается в носителя буржуазной опасности». А поистине стукаческие обвинения, предъявленные руководителем литкружка «Вагранка» критиком Алексеем Селивановским[18] к Пастернаку, вполне могли бы быть адресованы Гришашвили: «…Для поэта только один путь – путь к социализму. Но на этом пути перед Пастернаком возникают многочисленные препятствия. Он расстаётся с прошлым, жалея и грустя о нём, ибо практика пролетариата ещё не стала кровным делом Пастернака <…>. Это – грустное прощание с прошлым, это – признание бессилия индивидуализма…».
Вот почему, согласимся, более подходящего по всем параметрам переводчика для гришашвилевского «Прощания» и придумать было нельзя – и так трогательна, так убедительна интонация стихотворения:
…Я жду мелодии знакомой
С конца дороги проездной,
Но ветер, не достигнув дома,
Её проносит стороной.
Взамен шикасты[19] пара высвист
И частый стук по чугуну.
Напев, будивший вихрь неистовств,
Как в клетке соловей, – в плену.
С кем разделить мою незванность?
Я до смерти ей утомлён.
Меджнун без Лейлы, я останусь
Предвестником иных времён.
Старинный мой Тифлис, не надо!
Молчу, тут сил моих предел.
Но будь в преданье мне в отраду
Таким, как я тебя воспел…
Два года спустя Борис Пастернак перевёл ещё одно знаменательное стихотворение Иосифа Гришашвили – «Судьба гения на тифлисском рынке», в котором – неиссякаемая, саднящая печаль по поводу того, что лучшие творения художников слова, «Грузии голос на рынке толкучем» не востребованы новым временем, с иронией названным «продавцом дальнозорким», «что на торгах, фолианты маклача, редкости распродаёт за бесценок». В одном из таких голосов поэт пророчески услышал голос писателя Михаила Джавахишвили, после имени которого и возникла трагическая строка: «Вот где и мы по заслугам получим».
Здесь надо открыть «Литературную энциклопедию. 1928–1938», где некий Г. Т-ли клеймит Джавахишвили, с симпатией рисующего деклассированного грузинского интеллигента, напуганного Октябрьской революцией и не способного отдаться социалистическому строительству, а клеймя, припоминает все «грехи», которые приписывались, кстати говоря, и Гришашвили.
Иосиф Григорьевич не мог забыть день 22 июля 1937 года, когда поэт Паоло Яшвили, чьи друзья Тициан Табидзе и Николо Мицишвили были репрессированы и расстреляны, в ожидании неминуемого ареста застрелился в здании Союза писателей. А четыре дня спустя, говорит Гришашвили, 26 июля президиум Союза осудил Джавахишвили как врага народа, шпиона и диверсанта, подлежащего физическому уничтожению; писателя пытали в присутствии Лаврентия Берии и казнили в конце сентября, конфисковав его имущество, уничтожив его архивы, а его вдову отправив в ссылку. Потому-то столь трагично и мистично звучит строка: «Вот где и мы по заслугам получим», а вместе с нею – последние строфы «Судьбы гения»:
О, неужели затем нас призвали,
Чтобы и нас ожидало такое?
Так же ли тлеть на базарном развале
Писанному и моею рукою?
Волком весь день пробродил я, сражённый,
Злой, как Шамиль, и с тоски безъязыкий.
Сердце ж глухою цвело белладонной,
Выросшею на баштанах Бесики.
«Вакансии поэта» (по меткому выражению Бориса Пастернака) нередко по злой воле Сталина оставались пустыми. Одни, несогласные с властью или просто невиновные, были уничтожены, превращены в лагерную пыль, другие «писали в стол», третьи канули в неизвестность. Режиссер фильма «Покаяние» Тенгиз Абуладзе говорил: «Пришедшее к власти зло – это тупик, разрушительное социальное зло, пришедшее к власти, – это тупик». Он доказал: рядом с тираном Варламом Аравидзе не может быть самим собой талантливый художник – такой, как Сандро Баратели. Быть самим собой – преступление. По личному указанию Варлама у Сандро конфискуют картины, а его самого увозят – и больше Баратели не вернётся домой, в город, объятый ужасом. Гришашвили познал на себе, что такое деформация личности поэта в атмосфере всеобщего страха. Меняется по тональности даже его любовная лирика. Это хорошо заметно хотя бы по стихам, переведённым Анной Ахматовой:
…Пусть только сердце, милая, захочет,
Я берег подарю тебе высокий,
Где море светозарное бормочет,
Прибой кудрявый, сонный и широкий.
Я всё могу, поверь мне, я могучий.
Во мне любви и красоты начала,
И, если мне захочется, из тучи
Могу простое сделать покрывало…
И я могу, любимая, чтоб слово
Извечные законы изменило,
Чтобы оно торжествовало снова,
Остановив закатное светило…
Я весь иной во власти вдохновенья,
Я – мост между землёй и небесами.
Всему, что сердцу дорого в творенье,
Я господин, когда дышу стихами!
Ясное дело, здесь Гришашвили – не господин над формой, потому что он лукавит: слово не могло изменить установленные властью законы ГУЛАГа, да оно и ему самому не подчинилось, ибо было лишено творческой энергии. Он всё чаще обращается мыслью к злоключениям Саят-Новы, который подвергался преследованию пошлых завистников, изобличённых им лихоимцев-придворных, превративших его любовь к знатной женщине в трагическую, сделавших всё возможное, чтобы царь Ираклий II изгнал ашуга – и тот был пострижен в монахи. Но ГУЛАГ и подвалы, где расстреливают, – не монастырь. И поэтому Гришашвили поспешил заявить, что он меняется, что он изменился: «Я весь иной во власти вдохновенья». Не любовь тут виной – страх! Оттого и переводчица (да не какая-нибудь!) находится в плену непроходимых штампов. Дальше – больше. 12 марта 1950 года в день выборов в Верховный Совет СССР поэт опубликовал обращение к Сталину:
Ты вестник мира и добра,
Хвала твоей судьбе!
Не только наши голоса —
Жизнь отдадим тебе[20].
Автор вот таких строчек был, что называется, ко двору. Они были тотчас замечены, по достоинству оценены. Но они же ранили сердца множества его друзей и восторженных почитателей, огорчили их, хотя им были известны десятки примеров того, как «в буднях великих строек» «ломался» не один одарённейший писатель. Среди жизненных дат И. Г. выделяются особо такие: 1944 год – орден Трудового Красного Знамени, 1950 год – Сталинская премия, 1959 год – звание народного поэта Грузинской ССР. К этому ещё прибавим звание академика.
И всё же… Чем щедрее власть одаряла Гришашвили наградами и званиями, тем глубже уходил он в прошлое, с которым, казалось бы, распростился навсегда. Потому-то и взялся он за свою искромётную монографию о Саят-Нове, за исследования об Александре Чавчавадзе (о котором в некрологе было сказано: «Служба потеряла в нём достойного генерала, Тифлис – примерного семьянина, Грузия – великого поэта»), об Илье Чавчавадзе, об Александре Казбеги (разоблачителе беззаконий царских чиновников и феодалов, создателе популярных образов благородных, мужественных крестьян, лишения и преследования которого привели к тяжёлой душевной болезни, одиночеству, нищете и смерти), о грузинском театре. С завидной энергией раскапывал он неистощимые клады народного творчества, вошедшие в бесценную «Литературную богему старого Тбилиси». В послесловии к этому труду он писал: «Я не стану вас уверять, что открыл гениев – пусть лавры раздаёт тот, чья должность – их раздавать. Я что – комитет по лаврам? Нет и нет. Но я насладился плодами прекрасного дерева, которое почему-то считают дичком, – и я постарался развеять этот предрассудок. Это дерево живёт и переживёт многие деревья, и вкус его плодов неповторим!» Вот они, клады. Поэт стал удачливым добытчиком. Потому и сказано им было: «Я жадно ищу благородные тбилисские слова, лелею их, как рассаду нежнейшего цветка, и сажаю там, где нет равнозначного слова…»