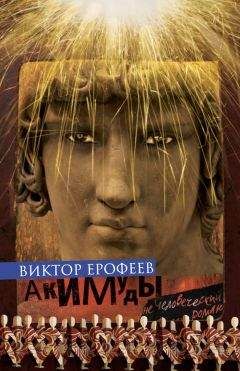Сергей Лебедев - Люди августа
Нет, я не ставил себе сознательно такой цели, да и нелепо было бы смешивать работу на контрабандистов и исторические изыскания; но мысль эта маячила в отдалении. Вдобавок, изучая перед отъездом карту, я снова прошел маршрутами своих мысленных поисков; от Львова всего шестьдесят километров до Дрогобыча, это то самое пространство, где воевал и исчез дед Михаил; меня подталкивало туда, вело за руку.
Конечно, накануне выезда я обещал себе, что разыскивать деда М. не буду; ну, может быть только, если операция пройдет успешно, заеду на обратном пути в Дрогобыч, посмотрю на город – лишь ради того, чтобы иметь образ тех мест, чтобы заменить таинственную неопределенность слова Дрогобыч, грохочущего, будто ломовая повозка на разбитой мостовой, скукой автовокзала, главной площади с Лениным, захолустной гостиницы – таких же, как и в сотнях других мест.
Я спокойно, почти без проблем провез урну в Жешув; украинские пограничники ею даже не поинтересовались, польские стали было придираться, что одна из бумаг не переведена, а другая не заверена апостилем.
Я стал было доказывать, ссылаясь на консульство, что в данном случае апостиль не нужен; но потом решил пустить в ход легенду. Когда я начал говорить о «тетушке», о том, как мечтала она быть похороненной в польской земле, о несчастливой доле ее отца, таможенники примолкли, а пассажиры, только сейчас понявшие, что я везу прах, стали креститься, одна старуха запричитала «Упокой, Боже, упокой, Боже», – и некое дуновение, некое тончайшее прикосновение к макушке ощутил я, словно Гермес, крылоногий бог, покровитель мошенников, воров и странников, даровал мне свое благословение; во всяком случае, тогда я думал, что это – благословение.
По приезде в Жешув я думал выбросить «урну» в ближайший же мусорный бак, погулять до вечера и уехать обратно во Львов через другой пограничный переход. Но, ступив на жешувский перрон, я понял, что не могу просто выкинуть свой груз.
Я был в трезвом уме, прекрасно знал, что внутри урны пепел и стекляшки. Но мой рассказ о вымышленной тетушке, мое сольное выступление в роли племянника словно сделали фальшивую урну чем-то немного настоящим, какое-то призрачное бытие слепой бабочки зародилось в ней. И я внезапно ощутил, что от нее действительно стоит избавиться, но ее нельзя просто оставить на улице; я спросил дорогу к кладбищу, мне указали две – к старому и новому; и я поспешил на старое, где уже давно не хоронили, к замшелым крестам, к летаргическому сну склепов. В один из склепов и я подложил свою урну, будто подселил покойницу; подложил, ясно ощущая, что оставляю под каменным сводом нечто отличное от абсолютно мертвой материи.
Но где, когда в урне поселился призрак выдуманной польской тетушки? Вдруг такая женщина на самом деле существовала, я угадал ее судьбу, случайно повторил вымыслом контур правды? Я поежился; там, за спиной, на кладбище кто-то взывал ко мне, требовал вернуться, словно создание моего воображения не желало умирать; я ускорил шаг, мысленно пожелав, чтобы ближайшие сто лет никто не нашел эту урну. Может, стоило бы бросить ее в реку, подумал я – и тут уже не выдержал, рассмеялся чуть надрывно: что я, сказку про джинна сочиняю, что ли? Хватит!
Чувство, видение улетучились; только на обратном пути, в вечернем автобусе во Львов, у меня возникло ощущение сродни тому, что бывает накануне болезни; это еще даже не первые ее признаки, а лишь странная мимолетная мнительность – словно внутри в теле что-то переменилось, а ты еще об этом не знаешь. Что-то переменилось; если бы я не стал рассказывать таможенникам легенду, то ничего не было бы; но я стал.
Я подумал – а не взять ли билет на ближайший рейс, не улететь ли сразу в ночь назад в Москву? Но все же отправился бродить в сумерках по Старому городу Львова.
То ли так уложена была там брусчатка, то ли так звучала почва, но, когда проходил маленький трамвайчик, казалось, вот-вот начнут шататься дома: весь город словно склад старой мебели на чердаке, вынь одно – и рухнет все; или – город будто изрыт ходами, зримыми и незримыми, иные парадные ведут сквозь время; и столько тут этих тайных нор, что реальность уже как дерево, погрызенное жуком-древоточцем.
Я увидел, как мужчина прикуривает от спички, прикрыв сигарету от ветра воротником плаща, и сами собой в голове сложились строчки:
Всякий будильник мечтает о проводе и динамите,
Каждая спичка желает встретить бикфордов шнур…
Террористы, заговорщики – этот город с его подвалами, чердаками, темными извилистыми улицами, глубокими тенями словно сам порождал их, размножал в стеклах витрин подозрительные фигуры; ты смотрел вдаль по улице – и словно уже целился в кого-то. Отстроенный Польшей и Австро-Венгрией, он попирал каменной тяжестью местную почву – и почва отвечала взаимной неприязнью, проваливалась, просаживалась, колобродила, вспучивала фундаменты; в каждом сыром углу, под сенью парков, жил мрачный земляной дух.
Как фантомы, как порождения этого духа вновь возникли имена Бандеры и других украинских националистов времен войны; пятьдесят лет они были запретными – и вернулись с такой легкостью, словно СССР вообще не существовало, не лежала на них печать молчания. В их честь уже переименовали улицы, им собирались ставить памятники; но какими ожесточенными возвратились они из забвения! Изгнанные вернулись с желанием мести. «Интересно, – думал я, – а с чем вернулся бы дед Михаил? Затаил ли он зло на бабушку Таню? Велико ли это зло? Существует до сих пор или уже рассеяно?»
Взбаламученная энергия чувствовалась в воздухе; произошло словно воскресение мертвых, взломаны были истлевшие крышки гробов, выломаны двери склепов; в городском парке у советского мемориала сквозь каменные ступени уже пробивалась трава, тут вступало в свои права забвение; а в других местах воздух был взбудоражен, взвинчен. В парке к подножию памятника солдатской матери кто-то поставил маленькую статуэтку Богоматери.
Я догадывался, что это время не продлится долго; только сейчас, может быть, в нынешние дни открылись тропы в прошлое, которые закроются, когда минувшее снова начнет превращаться в упорядоченную картинку. Я провел во Львове следующий день, поднялся на гору Высокого замка, осмотрел окрестности – все это была земля потерь, земля утрат, а потом отправился в Дрогобыч.
Автобус привез меня к вокзалу Дрогобыча, и я чуть было не уехал на нем же обратно. Да, я предполагал, что город окажется похож на сотни других, но не настолько же! Пятиэтажки серого кирпича, магазины на первых этажах, автобусная остановка, разбитый асфальт, хилые деревца, посаженные, наверное, на каком-нибудь субботнике, – все это было настолько знакомо, что казалось, я привез это с собой как реквизит, как изъян взгляда, делающий мир вот таким серо-неопределенным, лишенным всяких примет места и времени.
И вдруг, когда я уже поставил ногу на подножку автобуса, откуда-то издали, с запада, со стороны заходящего солнца, чьи последние лучи уже не касались крыш, а лишь освещали высокие лесистые холмы за городом, увалы Карпат, донесся звук – будто его производило солнце, закатываясь в бархатную шкатулку ночи; звон старинного менуэта долетел с ветром, еле слышимый, сбивчивый, западающий, пропускающий такты, но все же восхитительный.
Где-то далеко на башне, невидимой за домами, отбивали время старые часы, потерявшие часть музыкальных молоточков, может быть, идущие уже совсем невпопад. Я двинулся на звук, и, прежде чем я увидел другой, старший город, он сложился в голове из нот менуэта. Каждая нота возводила обветшалые особняки с угловатыми крышами, похожими на рыцарские шлемы – какими их представляют театральные бутафоры; вычерчивала чугунные ограды, вылепливала гипсовые маски над парадными входами, настилала каменные ступени; отзвуки шли на брусчатку мостовых, на флюгеры, жестяные карнизы, вычурные водосточные трубы, гербы владельцев; и когда мелодия наконец утихла, устав повторять себя самое, я уже стоял на воссозданной музыкой улице, и она не думала исчезать, развеиваться с пришедшей тишиной.
Для меня, выросшего в Центральной России, это был колдовской город, волшебный город. Как было вообразить на этих улицах – вот мелькнула в уличном проеме башня ратуши, увенчанная темно-бронзовым куполом, похожим на маковку маяка, с четырьмя циферблатами, смотрящими на четыре стороны света, – громыхающие угрюмые танки 8-го мехкорпуса деда Михаила, и вообще – самого деда Михаила? Будто сказочный герой, он дошел до предела русской ойкумены – и пропал там, где иссякла его сила, где ослабел его дар выживать, привязанный к почве. Я даже подумал, что он был уловлен этим городом; бабушка Таня пожелала, чтобы он не вернулся, – и тотчас же что-то случилось здесь, в чужом краю, не смерть, не гибель, а будто окошко в воздухе открылось – и нет человека, во всяком случае, нет прежнего человека.