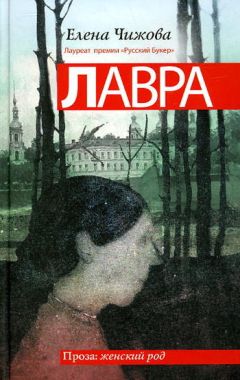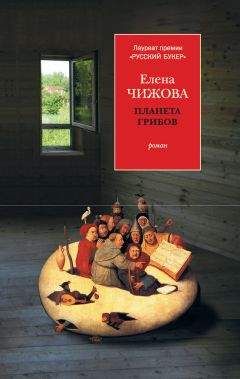Елена Чижова - Неприкаянный дом (сборник)
Часы, стучавшие в вестибюле метро, показывали без пятнадцати одиннадцать. Мигающие секунды пульсировали мелко, как сердце. С того момента, как Митя вошел в родовое здание, минуло два часа. Косясь на мигающий экран, я прикидывала: вряд ли им понадобилось больше. Я говорила себе: Митя успел вернуться. Но если так – сердце стучало в такт секундам, – значит, их время – всего лишь производная моего неведения, потому что теперь, когда Митя успел выйти, их время продолжается для меня одной. Мысль об отпавшем времени, которое не соотносится с настоящим, превращала его в подобие глиняного сосуда, зарытого под дверной порог. Время моего неведения посвящалось Молоху, и ужас, терзающий сердце, корчился остовом первенца, принесенного в жертву.
Я шла по кромке тротуара, и время пульсировало за ушами, отчего все, окружавшее меня, принимало странные очертания. Дома, выстроенные по контуру площади, отступали в глубину. Пространство словно бы ширилось на вдохе, и тусклые соборные купола, увенчанные обрубком, зыбились, оплывая свечами. Пространство, в которое проваливалось мое иссохшее время, втягивало меня, как кит, вдыхающий планктонное облако. Их пространство, чью алчность я разгадала, смыкалось над головой, как вода. В этом пустом пространстве я сама, мое застигнутое тело становилось продолжением пустоты, потому что толща, окружавшая меня, не имела ни души, ни тела. Точнее, это было какое-то общее, совокупное тело: на меня оно зарилось равнодушно, без малейшей вражды. Медленно, словно желая рассмотреть напоследок, я подняла руки и поднесла к глазам. Голубоватые вены пульсировали секундами, пальцы ходили мелкой дрожью. Стоя на краю площади, ширящейся на вдохе, я вглядывалась в свои пальцы, как будто в них, как в последнем вдохе, содрогалась моя душа.
Жжение, похожее на слабый ток, пронзило самые кончики: я расслышала тайный, тихий звук. Сквозь толщу, накрывшую город, он сочился вниз из того пространства, которое я, выстраивая свою иерархию, назвала верхом . Это пространство было источником и истоком. Струя, облеченная в слово, изливалась сквозь мои гибнущие пальцы, проникая в поруганный и покоренный город.
Замерев у ограды, я думала о том, что если и есть надежда, она в этих зыбких звуках. Они одни называются Словом: имеют силу победить пустоту, разрушить скверное и жестокое время рода , которое те , не имеющие ни тел, ни душ, проживают из поколения в поколение. Сквозь толщу, стоящую над головой, я вглядывалась в другое время, в котором женщина, похожая на меня, станет одушевленной. Рядом с ней я была помоечной побирушкой, примеряющей чужое шмотье.
* * *Сероватые следы лежали на Митиных щеках, перечеркивали лоб. Слабый запах гари стоял в прихожей, пощипывал глаза. Жаркая волна пахнула навстречу, когда я вошла в комнату – следом за Митей. В воздухе, вьющемся струями, летали белые клочки. Он подошел к печке и, распахнув чугунную дверцу, пошевелил. Цвета пламени корчились и выгибались с хрустом. Митя прислонил кочергу и провел рукой по губам, оставляя серый след: «Вот, Пепельная среда… Как оказалось, именно сегодня…» – «Что?» – я смотрела в жерло ожившей печи. «А, ерунда, – он махнул рукой, – не обращай внимания, это – у ваших врагов: первый день Великого поста». – «Как Чистый понедельник?» – я спросила, замирая.
Снова он взялся за кочергу и распахнул дверцу. Отсвет пламени лег на его лицо: теперь оно казалось расписанным двумя красками – серой и красноватой. «Ну, что там, сегодня?» – «Сегодня?» – он отозвался тихо и недоуменно, словно сегодняшний день был самым однозначным . Растерянно я считала дни и числа: у меня выходило то – двузначное. «Ты… Не ходил?» – я испугалась и осеклась.
Митино лицо повернулось в мою сторону и подернулось отвращением. Оно проступало сквозь двуцветные полосы, как положенные на кожу белила. «Я не могу говорить об этом», – он сказал твердо и провел по губам пепельной рукой. «Взяли подписку?» – я спросила шепотом. Он дернул локтем и качнул головой. «Господи, ну что же тогда, да перестань ты – с этой печкой», – сделав шаг, я вырвала кочергу.
«Послушай, – Митя заговорил медленно, – я понимаю, в тебе говорит здоровое любопытство , но там – это… разговор, я не хочу и не могу в подробностях, – он поднял голос, – но главное, что тебе надо знать: я был прав. После того, что было там , я не смогу оставаться в этой стране, продолжать как ни в чем не бывало». – «Они… что-то потребовали?» – первое, что пришло в голову.
«Потребовали? Во всяком случае, ничего такого, о чем я не знал бы раньше». Мягкое, похожее на пепел, обкладывало клетки мозга. Слова были пустыми и бессмысленными, как иссохшее время. «Что? – сквозь словесную тьму я смотрела в огонь. – Что ты сжигаешь? Письма?» – «Писем нет. Собираюсь сжечь книги, – он отвечал мертвым голосом. – Здесь мне больше не понадобится». – « Все? Но это же – отцовская библиотека…» – взглядом я обвела стеллажи. «Именно поэтому. За свою я бы… Нет, все сжигать не требуется, только самые главные ». Я оглядывалась, не веря. В присутствии тысяч томов он не мог говорить всерьез.
«Единственное, о чем жалею, – разговор с твоим благолепным попиком. В этом виновата ты. Это ты поймала меня на слабости… Если бы не ты…» – он задыхался. Двуцветные полосы, покрывающие лоб и щеки, лежали глубокими шрамами, как будто их вырезали по живому. «Они… тебя мучили?»
«Что ты имеешь в виду? – как-то мгновенно успокоившись, Митя переспросил насмешливо. – Впрочем, догадываюсь, – он улыбнулся криво. Улыбке мешали шрамы. – Комната сто один . Уж не знаю, может быть, под влиянием литературы у многих сложились превратные представления об этой области нашей жизни: все эти английские досужие выдумки с крысами, комнатами и пытками, – он говорил размеренным голосом, как будто, взойдя на кафедру, читал лекцию. – У нас, доложу тебе, иначе. Все начинается в юности, когда, побывав у них, ты надеешься, что на этом все закончилось. А как же иначе, раз они тебя отпустили ? Слепец, ты живешь, не глядя в зеркало, а поэтому и не знаешь: у тебя на лбу – их печать. Однажды они закидывают крюк и цепляют тебя за губы, и твои иллюзии, которые прежде казались жизнью, остаются по ту сторону, словно ты уже умер. И тогда ты говоришь себе: все это время я жил несовершеннолетним, иначе говоря, придурком». Митя остановился.
«Завтра я подаю заявление. Я знаю, в отделе кадров подпишут не вдруг, существует особый ритуал. Так сказать, набор ритуальных услуг, которые они любезно предлагают. Отъезжающий – род трупа, никаких прав не имеет, все решают за него. Только в данном случае – не родственники, а сослуживцы: именуется бесхозным телом. Таким, как я, все услуги – бесплатно, – мне показалось, он снова улыбнулся. – После чего труп отправляется в ОВИР, чтобы договориться об условиях: все, как в Греции, – на этом этапе стоит и денежек, и усилий. Интересно, как будет выглядеть мой Харон? О, я уверен: дебелая баба с вшивым домиком, супруга кого-нибудь из этих . Семейный подряд, ты не находишь?» – сложив руки, Митя сидел напротив. Высокомерие умершего играло в его бровях.
«А впрочем, искать аналогий – скверная привычка. Там я надеюсь от нее избавиться. По крайней мере, для тебя я не хочу подбирать сравнений. Пусть остается как есть». – «Что – как есть?» – «Точнее, как было, – он поднялся, не глядя, – было и больше не будет. Вчерашнего я тебе не прощу. Как ты сказала, Чистый понедельник? Я не очень тверд в ваших церковных терминах, но, кажется, все прощения совершаются накануне. Так что, будем считать, простились», – смиряя брови, он двинулся к затухающей печи.
Пачка книг в твердых переплетах лежала готовой поленницей. Нагнувшись, Митя подхватил верхнюю и покачал на весу. Жесткий коленкор, изрезанный серебряным тиснением, ходил у меня перед глазами. «Вот, – он смотрел на меня, покачивая, – эту надо обязательно сжечь. Я же сказал тебе: все – не надо. Штук двадцать-тридцать и тогда…» – «Что тогда?» Книжный обрез, повернутый ко мне боком, был захватанным и неровным, как будто, прежде чем прочитать, его резали тупым ножом.
«Есть такой анекдот. Злопыхатели вроде меня любят рассказывать. Году эдак в шестидесятом журналисты спросили у японцев: когда (речь шла об электронике) СССР сможет вас догнать? Японцы обдумали. “По самым оптимистическим прогнозам, лет через тридцать”. В семидесятом их снова спрашивают. Японцы прикинули и отвечают: “В лучшем случае лет через пятьдесят”. В восьмидесятом их спросили в последний раз, и, обдумав, японцы ответили: никогда ». – «Я не понимаю…» – «Что непонятного? – взгляд, остановившийся на мне, прищурился и собрался. – Есть несколько книг. То, что в них написано, надо прочесть и усвоить, иначе будущее никогда не наступит. Страна, отвергшая эти книги, обречена. Именно их и именно с этой целью я и собираюсь уничтожить, чтобы ни в коем случае эти книги не остались им ».