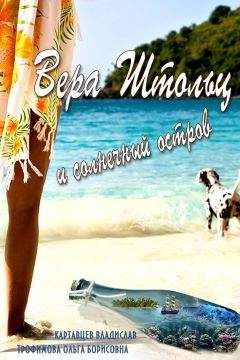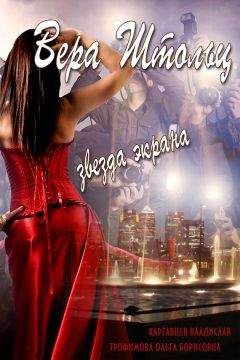Олег Михалевич - Ночь с Марией. Рассказы
Тревога
Ветер дул с берега, со стороны огромной угольной груды. Белоснежная надстройка «Иркутсклеса» понемногу покрывалась непрезентабельной вязью темных разводов. Впрочем, разглядывать судно было некому. Два портовых крана с большими электромагнитными тарелками на месте привычного крюка захватывали на берегу разнокалиберные куски искореженного металла, нацеливали тарелки с грузом на разверстые судовые люки, отключали электромагнит, и в трюмы с высоты в несколько метров сыпался металлолом. Грохот стоял невообразимый. Едва началась погрузка, судно опустело. Остались лишь те, кто обязан был находиться на борту по долгу службы – вахтенные. Благовидный предлог для ухода на берег нашел даже грузовой помощник Лобанов. Полноправным командиром «Иркутсклеса» остался третий помощник капитана Игорь Сенечкин, или Игорь Петрович, как начали называть его с недавних пор.
Штурманский китель с двумя полосками золотистых шевронов Сенечкин носил лишь третий месяц и к обязанностям своим относился крайне серьезно. Сейчас его жена Люба сидела в небольшой, но довольно комфортабельной каюте, зажимала руками уши и смотрела на мужа. Время от времени она отнимала от уха правую руку, чтобы прикрыть подавляемый зевок. Разговаривать из-за шума было почти невозможно. Она скучала, и ей хотелось спать. Остановиться в Риге было негде, своя квартира пока не светила, найти съемную комнату не удавалось, и две последних ночи она провела в дороге, в поезде из Воронежа, в плацкартном вагоне. Чтобы скрасить ситуацию, Сенечкин открыл бутылку вина, подливал понемногу в Любин бокал, но сам не пил. Зато каждые полчаса вставал и обходил судно.
Металлолом сыпался исправно. Металлическая стружка, дырявые чайники, детали станков, электромоторы, железные листы, проволока, паровозные колеса, гнутые рельсы, водопроводные трубы – найти здесь можно было все, что с явным удовольствием и делали при разгрузке испанские докеры, охотники за дорогим цветным металлом. Сенечкин заглядывал в трюмы, проверял натяжение швартовых канатов, проходил мимо запертых дверей жилой надстройки и возвращался в свою каюту, к жене.
Больше всего на свете ему хотелось сейчас повернуть ключ в дверном замке, скинуть китель, прижать жену покрепче и… Но устав морской службы говорил о том, что дверь каюты вахтенного штурмана должна быть всегда открыта, а право спать в ночное время он имеет, но не раздеваясь, и он уже трижды объяснил это Любе. Наступала ночь.
– Может, я лягу уже? – сказала она в короткое мгновение тишины.
– Конечно, конечно, – покивал он, и отвел глаза, когда она начала медленно расстегивать кофточку. – Ложись, ложись, а я еще обход сделаю и тоже прилягу.
Крановщики работали неутомимо. На борту все было в полном порядке. Вахтенный у трапа исправно нес службу. В конце концов, вполне можно было немного отдохнуть. На всякий случай Сенечкин еще раз прошелся по пустым коридорам, и ощутил естественный позыв организма. Игорь Петрович зашел в ближайший туалет, гальюн по-морскому, и запер дверь. Перед уходом он умыл руки в крохотном умывальнике и внимательно осмотрел себя в тусклое зеркальце над раковиной. Щеки его с нежной, нечасто еще тревожимой электробритвой кожей, слегка зарделись в предчувствии нарушения устава, которое он сейчас собирался совершить. Потому как служба службой, но когда в постели ждет любимая женщина, да еще после двухмесячной разлуки…
Сенечкин резко дернул щеколду и нажал плечом на дверь. Дверь не открылась.
Поначалу он даже не понял, что случилось, а попросту крутнул щеколду еще раз. Дверь стояла незыблемо.
«Только спокойно, спокойно», – вслух сам себя урезонил Сенечкин и попытался сосредоточиться. Замок состоял из трех частей, а именно из насаженных на одну ось двух ручек и стального язычка внутри. Судя по всему, внутренняя ручка сорвалась с оси и на механизм больше не воздействовала. Выйти из ситуации можно было двумя способами: дождаться, чтобы кто-либо повернул ручку снаружи или попытаться вышибить дверь. Сенечкин несколько раз с силой ударил кулаком по дверному полотнищу и понял, что грохот падающего в трюмы металлолома надежно перекрывает любые другие звуки. Сама же дверь при конструировании, возможно, предназначалась для какой-то иной надобности и была сделана из двух скрученных между собой массивных металлических пластин и при попытках выдавить ее стояла незыблемо, как скала.
Он еще попробовал покрутить ручку в слабой надежде, что вдруг все образуется само собой, но чуда не произошло. Тогда Сенечкин внимательно осмотрел помещение. Три стенки граничили с машинным отделением, а четвертая, с дверью, отсекала гальюн от нижнего коридора судовой надстройки. В этот коридор выходили двери кают рядового состава. Все переборки были сделаны из металла, из такого же материала состоял потолок, к которому прикреплялся датчик пожарной сигнализации, а пол покрывала выщербленная кафельная плитка. Все оборудование состояло из унитаза, умывальника и прикрученного к переборке зеркала. В море судно постоянно испытывает вибрации от работы двигателя. В штормовую погоду гребной винт может оголиться, и в такие моменты корпус сотрясает сильнейшая вибрация. Центробежная сила качки готова сорвать любой предмет. Поэтому все на судне прикрепляется крепко, намертво, на года. И гальюн не был исключением.
Сенечкин опустил крышку унитаза, сел поверху и попытался представить, как на его месте поступил бы грузовой помощник. Лобанов был старше Сенечкина на четыре года, но выглядел намного обстоятельней. Он никогда никуда не спешил, но все успевал. Он никогда не уклонялся от сложных проблем и всегда выходил из них с блеском. И у него были незыблемые правила. «Бесполезное – вредно» любил приговаривать он, особенно, когда его пытались втягивать в сомнительные общественные мероприятия, будь то пышущий энтузиазмом комсомольский лидер моторист Венькин или первый помощник капитана Берзиньш. И оказывался прав.
Стучать, размышлял Сенечкин, было бесполезно, все равно никто не услышит. Оставалась надежда, что кто-то пройдет по коридору в момент затишья. Например, сменяющийся с вахты матрос Козлов. Но его вахта длится до четырех утра, а сейчас была только половина первого. Сенечкин представил, как на следующее утро Козлов с гаденькой кривоватой улыбкой начнет рассказывать, как он вызволял из гальюна молодого штурмана, этого салагу, и тихо застонал. Позор будет на весь флот. И еще Люба. Что подумает она? Как вообще можно объяснить женщине, ожидающей его в постели, что он по дороге к ней застрял в… гальюне!
С Любой они познакомились на выпускном вечере в мореходном училище, куда ее привела подруга Ольга, невеста его сокурсника Гриши Коломенского. Игорь и Люба не пропустили ни одного танца, и в каждом из них Игорь все тесней прижимал к себе необыкновенно красивую и умную девушку из Воронежа, студентку консерватории. Люба гостила у Ольги, и курсанты провожали девушек к Ольгиному дому вдвоем. Тогда Сенечкин впервые поцеловал Любу, на прощание. На обратном пути Гриша долго, словно ожидая одобрения, рассуждал о своей замечательной невесте, с которой он знаком уже целый год, о том, что решения в их морской жизни принимать надо быстро, на трезвую голову и пока ты еще курсант. Гриша с Ольгой договорились, что они поженятся, как только Коломенский получит первый отпуск после предстоящего выхода в море, чтобы денег хватило и на красивую свадьбу, и на медовый месяц. На следующий день они решили отметить новенькие дипломы в узкой компании, вчетвером, и поехали с девушками в Петергоф, в Петродворец. Разбившись по парам, они долго ходили по дорожкам между раззолоченных фонтанов, Сенечкин по памяти декларировал сонеты Шекспира и все больше понимал, что Люба именно та, единственная и неповторимая, и что на поиски подобной у него никогда в его морской жизни больше не будет времени. Вечером он сделал предложение.
Свадьбу, очень скромную, они сыграли в родном Любином Воронеже, неделю спустя. Так Сенечкин воспользовался привилегией ускоренной регистрации брака, доступной только для моряков. Еще через неделю он получил назначение на «Иркутсклес». А теперь он сидел взаперти и …
Ему стало жарко. Он стянул с шеи галстук и расстегнул ворот рубашки. Снял китель. Вскоре он расстегнул пуговицы рубашки полностью, посмотрел на покрывающие ее пятна пота и подумал, что помещение нагревается слишком быстро. Из-за угольной пыли механики отключили вентиляцию, и ограниченное пространство гальюна быстро перенимало температуру человеческого тела. Помещение оказалось почти герметичным, а это означало, что и количество кислорода в нем ограничено… знать бы насколько!
Сенечкин разделся до трусов, снова сел на крышку унитаза и постарался дышать как можно реже. Какое-то время это удавалось, но потом сердце забилось в ускоренном темпе, и легкие затребовали недополученное количество воздуха. В ушах загудело.