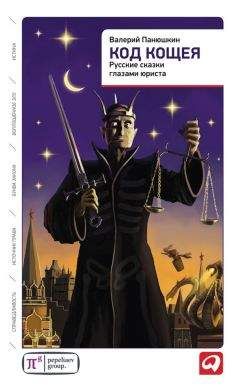Валерий Панюшкин - Незаметная вещь
Как только медсестры ушли, майор встал и пошел на костылях в туалет. Саша пытался последовать его примеру, но едва опустил оперированную ногу с высокой шины, как страшная боль пронизала его насквозь и в глазах потемнело.
Майор улыбнулся:
– Ну что, боец, больно?
– Больно, конечно.
Но разве ж теперь из-за боли и не поссать как человеку?
Вредительство
Мой дедушка по отцовской линии служил в НКВД. Я не знаю, участвовал ли он в расстрелах, но полагаю, если бы приказали, участвовал бы как миленький. И даже не задавался бы слишком сильно нравственными вопросами типа «как же это? расстрелы?» – стрелял бы просто, и всё. Дедушка был не очень грамотным и всерьез верил во всю эту большевистскую белиберду про врагов народа. Стрелял бы, и вся недолга.
Впрочем, вряд ли кто-нибудь приказывал дедушке расстреливать людей, потому что дедушка служил в НКВД конюхом. И если про гуманность и нравственность, про политику и пропаганду дедушка ничего не понимал, то про лошадей понимал хорошо – знал лошадей, любил и жалел, еще с тех пор как мальчишкой в рязанской деревне работал на конезаводе.
Особенно в конюшнях НКВД дедушка жалел буланого жеребца донской породы, на котором ездил какой-то высокопоставленный майор госбезопасности (чин, насколько я понимаю, равный теперешнему генеральскому). Имени этого майора дедушка мне так и не назвал никогда, даже в старости, когда был пенсионером и подрабатывал дворником в детском садике. Боялся дедушка этого майора до самой смерти. И говорил мне только, что майор этот был зверь.
Майор всегда носил точеные шпоры и в кровь рвал этими шпорами коню бока. Взнуздывать коня майор всегда велел с мундштуком, и мундштуком рвал коню губы. А еще в Туркестане майор пристрастился ездить не с хлыстом обычным, и даже не с нагайкой, а с камчой, в которую вплетены были кусочки железа и которую туркестанские басмачи использовали как холодное оружие, а не затем, чтобы погонять лошадь…
Одним словом, майорский конь каждый вечер приходил в конюшню окровавленным. Дедушка лечил его раны, замазывал какой-то специальной мазью, которую сам изготовлял из йодоформа, навоза и меда. Но раны заживать не успевали. С каждым днем всё больше майор рвал коню губы и всё больше язвил бока. Дедушка хоть и был молодым человеком, но понимал, что под таким седоком добрый донец не проходит и полугода, отправится на колбасу.
И вот однажды на рассвете, когда на конюшне никого не было, дедушка мой забил буланому донцу под подкову длинный и острый камешек. Со знанием дела забил: так, что конь под майором вышел на плац уверенным и собранным галопом, но через час захромал. Майор против обыкновения даже и не накричал в тот день на дедушку, что, дескать, лошадь хромает. Камешек под подковой казался случайностью. Так бывает. Бывает, что лошади расковываются и что под подкову попадают камешки. Майор госбезопасности просто велел конюху вычистить донскому жеребцу копыта и перековать.
Позвали коваля. Коваль был человеком пожилым и опытным. Он долго стоял рядом с лошадью, скрючившись и положив лошадиное копыто себе на колени. Рассматривал. Подкова была ничуть не деформирована. Копыто ничуть не слоилось. Гвозди ничуть не расшатались. А камешек под подкову был загнан так, что его совсем не было видно снаружи – заподлицо бы загнан, как не может быть, если это просто случайность.
Дедушка же мой стоял рядом и понимал, что коваль понимает – лошадь испорчена намеренно и некому было испортить лошадь, кроме молодого конюха. В дедушкиной голове калейдоскопом перебирались истории про вредителей: отравляют колодцы… ломают железнодорожные пути… неправильно лечили товарища Фрунзе… Молодой конюх вдруг понял, что и он теперь вредитель, и ничего не стоит ковалю на него указать со знанием дела.
Но видел же коваль рваные лошадиные бока. И рваные губы видел. И истерзанный камчой круп коня, и плечи. И был коваль старорежимной закваски, земляной человек с седой бородой и усами. В усы и усмехался, расчищая копыто и прилаживая новую подкову. И ничего не сказал. Пожалел. То ли глупого пацана конюха, то ли животину, то ли обоих вместе.
Ближе к вечеру, когда сам майор явился посмотреть, перекован ли конь, коваль нараспев сказал майору:
«Тяжелый вы, товарищ майор, перетруживаются под вами кони. Вы бы ездили впеременку на разных».
С тех пор жестокий майор госбезопасности стал ездить на разных лошадях попеременно, и конюх заботился чередовать коней для майора так, чтобы раны у лошадей успевали подживать.
Прекрасная невидимка
Петербурженок и москвичек сравнивают так же часто, как Петербург и Москву. Как ночь и день, зиму и лето, собаку и кошку. Путина и Ельцина, «Тайд» и «Ариэль», Гора и Буша, мини и макси. Бессмысленное сравнение. Все вышеперечисленное друг от друга ничем не отличается. Кроме, разве что, одной какой-нибудь мелочи. Той самой, за которую можно или нельзя полюбить.
К тридцати годам для всякого сколько-нибудь внимательного мужчины почти уж не остается завораживающих женских тайн. Я знаю, например, что порывистость и независимость красавицы создается за какой-нибудь час в парикмахерской «Жак Дессанж». И знаю, сколько эта независимость стоит.
Наоборот, трогательная овечья покорность прекрасно нахлобучивается на женщину в придачу к костюмчику от Тома Клайма. Поэтому в Тома Клайма естественный отбор заставляет одеваться секретарш.
Многие мои знакомые встречают где-нибудь в гостях или на работе платье от Демилимейстер в сочетании с заколкой от Картье и влюбляются в них. Дарят им еще, скажем, шубу от Фенди и удивляются, куда делась любовь на следующее утро, когда Демилимейстер висит на спинке стула, Картье валяется где-то в простынях, а Фенди ждет у входа.
В Москве и Петербурге одни и те же бутики. В них продаются одни и те же марки. Так что москвичка, обладающая деньгами и вкусом, ничем не отличается от петербурженки, обладающей вкусом и деньгами.
Говорят, петербурженка бледна и печальна. Глупости. Я знавал много веселых щекастых петербурженок и еще больше бледных печальных москвичек. Говорят, петербурженка скромна, а москвичка нагловата. Бывает, но не обязательно. Говорят…
Но все глупости! Просто в Петербурге холоднее и меньше света. Поэтому, когда я был влюбчивым студентом, то приезжал в гости к петербургским девушкам на разваливающемся трамвае, и между двумя остановками наступала ночь, и подъезд (парадная) был темен, и лестничные ступени крошились под ногами. А девушка, что отворяла мне дверь, обязательно носила длинную шерстяную кофту на голое тело. И пока девушка обнимала меня, я не успевал разглядеть ее лица.
В Москве я ехал на метро по ярким станциям с расставленными в шахматном порядке матросами революции. На улицах горели фонари и в родительном падеже призывная надпись «колбасы». В подъезде (именно подъезде) передавала что-то азбукой Морзе люминесцентная лампа. А девушка, открывающая дверь, была одета даже зимой в лифчик без кофточки, словно циркачка.
Ну и что, что я теперь езжу не на трамвае, а на такси? Все равно в Петербурге мало света, а в Москве много. Даже белые петербургские ночи тусклее московских желтых. Поэтому, никуда не денешься, петербурженка тактильней. А москвичка – заметней.
Что я помню? Ну, например, тоненькую жилку на запястье. У одной головокружительной москвички – небесно голубую под прозрачной кожей. У не менее головокружительной петербурженки – теплую и бешено трепещущую под моими пальцами.
Вот об этом и речь. Москвичек, в которых я был влюблен, помнят мои глаза. Петербурженок, в которых я был влюблен, – кончики пальцев.
Только не думайте, будто мои глаза помнят красоту и безупречность линий. Красота, еще раз повторяю, продается в модных магазинах и вылепляется в косметических салонах. Это, даже если очень дорогая, то штамповка. Мои глаза помнят, наоборот, щемящее уродство любимых девушек, неожиданную безвкусицу. Я никогда не забуду, как одна восхитительная голубоглазая брюнетка в Москве надела как-то раз для прогулки со мною клетчатую юбку с полосатой блузкой. Боже мой, как я мучился. Я испытывал чувство сродни сладкой боли, какую доставляешь себе, случайно воткнув зубочистку в десну. Я думал и до сих пор думаю, как могло получиться, что попугайский наряд возлюбленной не уменьшал в моих глазах ее привлекательности, а, наоборот, увеличивал во сто крат. Я не помню ее имени. Я не помню, где мы с ней познакомились и как расстались. Но я помню эту юбку и эту блузку, черные волосы и голубые глаза.
Другой раз, но уже в Петербурге, с девушкой, лицо которой, сколько ни тереби память, не проявляется из напущенного Мнемозиной тумана, я шел по улице за руку, и была зима. Нам было холодно. Я умирал от того, какие у нее крохотные и гладкие ногти, и от того, как ни в какие ворота не лезет на фоне таких ногтей шершавая, как наждак, кожа на ее руках. Такие уж в Петербурге зимы. Не поможет никакой крем. Цыпки образуются за две секунды, пока барышня достает, например, кошелек из сумочки.