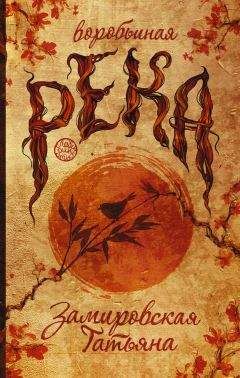Татьяна Замировская - Жизнь без шума и боли (сборник)
– Нет, просто написали же вот. Подумать только. Я чуть не спрыгнула с балкона в ночной рубашке, как есть, и с сигаретой в руках, потому что там было написано название того романа, который я в ту ночь начала. Название придумала, начала роман – а они утром пришли и написали именно это название. И тоже с маленькой буквы и z английское всюду. Трындец, Марина. Это просто трындец.
Алефьева берет холодную ладонь Сельницкой и рисует на ней закрытый глаз.
– Твой глаз все еще закрыт, – говорит она подруге. – Мой, наверное, тоже закрыт. И когда эти мальчики приходят к тебе под балкон, они всего лишь хотят открыть тебе глаза. Потом они и вовсе тебя распнут – так случается с каждым гением, его распинают именно такие, непонявшие, которые видят только волны тела, но не грохот таланта – им наплевать на тексты, им наплевать на талант, они видят только то, где там у тебя какой изгиб, платье новое, свинка в трусах, овсяные хлебцы под мышками, тьфу. Именно такие распинают потом, да. Которые вначале восхищались и всякое такое. Вот, например, вчера фотограф Гернадо сидел у меня на кухне мрачный как сфинкс и ел кофе из банки ложкой. Растворимый кофе. Выел всю банку. Думала, потом встанет и убьет меня.
– Фотограф Гернадо? Подожди-подожди, – хмурится Сельницкая, – так ты с ним знакома?
– Всю банку выел, – мрачно отвечает Алефьева.
– Марина, блин. – Сельницкая лижет свою ладонь и начинает деловито вытирать дергающийся глаз о диван. – Какого хрена ты с ним общаешься? Он же подонок, каких свет не видывал! Это единственный человек, который – да это же – о господи – ты разве не читала?.. – Тут Сельницкая кладет дрожащие ладони на стол и начинает плакать.
– Так. Стоп. Подожди-подожди, – начинает кое-что понимать Алефьева. – Это тот самый «фотограф», про которого ты мне столько рассказывала?
Сельницкая плачет так безутешно, что вот к ней уже подходят какие-то незнакомцы и начинают предлагать ей всякое дерьмо: носовые платочки, бумажные салфеточки и даже карамельки в красных бумажках, очень уж она трогательная – совсем маленькая, заплаканная, по-настоящему разочарованная в жизни, бедный бледненький солдатик чужого несостоявшегося будущего. И каждый, уходя в этот вечер домой, унес с собой в сердце образ безутешно плачущей девочки; никогда они не купят ее книгу, никогда не заметят ее имя в магазинах на обложках, вообще ничего теперь не увидят, кроме этой плачущей девочки во сне, – и с этого момента, представьте себе, каждую ночь.
Куриный бог
Юля и ее бабушка Инжир каждое утро ходят в Бобровый парк смотреть на отлетающие самолеты. Когда над ними пролетает очередной, разрезая взгляд дальними всполохами солнечного металлического животика, бабушка Инжир уже привычно достает из сумки бутерброды с огурцом.
– В школе пообедаю, ну там будут котлеты же всякие, каша, компот, – щурится Юля, капризно и трогательно приподняв верхнюю губу.
– В школах уже давно не кормят, – тихо говорит бабушка Инжир. – Давай, ты всегда говоришь одно и то же, какой идиотизм, немедленно ешь, я для тебя готовила.
Юля грызет бутерброд, рассматривая прохладный эфирный «боинг» аскетичного телосложения, и ей кажется, что у всех его пассажиров во рту в данный момент болотистый вкус огурца.
Потом, когда Юле уже совсем перестали нравиться люди, она поднимала с парковых дорожек окурки и, морщась, жевала их: теперь у них во рту будет привкус окурков, как же им неуютно будет лететь на бизнес-встречу.
– Когда-нибудь уже потом, когда ты подрастешь, – говорила бабушка, желтоватыми пальцами выковыривая из сопротивляющегося Юлиного рта пережеванные, но все еще упругие окурки, – я куплю тебе билет на такой самолет, как раз вот накопится сколько нужно, и куплю, что поделаешь. И ты сядешь в него и улетишь отсюда навсегда в другую, правильную жизнь, а я останусь тут и умру одна, и только дождь будет ходить на мою могилу или не будет.
Юля поднимает с земли камень и кладет его в рот – пускай все, кто летит в Париж, неясно мучаются от ощущения того, что они сосут камень.
– Или не будет, – говорит бабушка Инжир, – скорей всего, не будет – меня никто не хватится, и я со временем мумифицируюсь в собственном доме, я читала, со многими бабушками так происходит.
Юля понимает, что ей нужно обнять бабушку, погладить ее шершавые плечи, сказать что-нибудь важное о чувствах, важное о заботе или о любви, но Юля не может – ей все это мучительно, ей не хватает силы воли, ей вообще многого не хватает.
– Здесь и правда слишком многого не хватает, – говорит она, выплюнув при этом камень бабушке на загодя подставленную ладонь.
Бабушка улыбается.
– Это куриный бог, – удивленно и радостно говорит она, глядя на камень. – Я продену в него веревочку и буду носить на шее до того самого момента, пока ты не исчезнешь. Но ты теперь уже никогда не исчезнешь.
Юля понимает, что выдала себя – по ошибке она выплюнула не тот камень, который лежал на дорожке Бобрового парка, а тот, который был у нее во рту с самого рождения.
Жизнь без шума и боли
– Я работаю в разведке, – сказала Глафира и вынула изо рта кусочек пастилы.
Ольга подумала, что пастила сгнила – неделю лежала в хлебнице. Ей стало стыдно, и она вскочила, чтобы вскипятить еще чаю.
– Не вставай, – попросила Глафира. – Полковник Грифелько вчера говорит мне:
«Знаешь, а ведь главнокомандующий-то овечку в ванной держит. Денежную овечку. Шерсть золотистая». Они все такие завистливые: за овечку пережрут друг друга. Потом Ревьянова смеется такая: «А наша Глафира – птенец совсем, но вообще – чемодан, а не девица!» Чемодан! А еще вчера Скопцев розового коня объезжал – знаешь?
– Не знаю, – сказала Ольга и достала из ящика фольгу. – Хочешь, будем вырезать из фольги снежинки и клеить их на потолок? Будет над нами тогда как будто небо звездное. – И потянулась к подруге тонкой, как прозрачная лента, рукою.
Глафира от души рассмеялась – будто кувшинчик где-то за рекой о серебряный камень голову сломил.
– Ты глупый ребенок, Ольга, – удивленно сказала она. – Ты разве не понимаешь, что если Скопцева розовый конь со спины сбросит, то губернатором Новопыльни поставят Кадуковского? А Кадуковского мы вчера пытали и сковырнули ему ноготь. Я вечером дома положила этот ноготь на тарелку и думаю: зачем я живу? Ведь человек брыкается, не отдает себя на разрыв, на уничтожение – смешной такой. Вот его ноготь царапал спины, сковыривал корочки – и я никогда бы не подумала, что буду сидеть над ним и плакать.
Ольга отхлебнула чаю и улыбнулась Глафире какими-то дрожащими зубами:
– А мы Юльку вчера видели. Она мальчика родила, оказывается. Институт бросила и родила. А Семен наоборот – поступил на автотракторное. Теперь весь черный отчего-то. От свинцовых паров, наверное.
Глафира помрачнела.
– Страна живет в тоннеле и идет по тоннелю – но куда?! – отчаянно выкрикнула она. – Вчера расстреливали Копелькину – она как белочка прыгала вверх по столбу. Прыгала и прыгала. Все люди прыгают, когда их разрывают на части прямо так, горячими. Я не могла заснуть потом тоже. А наутро уже совсем другое было – Кузнецова протоколы с дела Кибиткина принесла. От смеха глохли – Кибиткин, оказывается, рыбалку любит. Как у людей все: рыбалка, дети, чипсы. Знаешь, ведь где-то там у него есть информация про всех нас – с кем жили, что ели, отчего умирать будем; может, и по столбу прыгать будем, как Копелькина.
Ольга достала из холодильника конфеты «Белочка» и задумчиво высыпала их на стол. Она давно не видала Глафиру и боялась показать, как рада ее приходу.
– А нам вчера фильм привезли, – начала она рассказывать. – Военный фильм. Называется «Солдат-медвежонок». О том, как партизанский отряд приручил раненого медвежонка. Назвали медвежонка Димой – в честь командира отряда, который погиб. Медвежонка от пули спас, а сам погиб. Теперь медвежонок – Дима. На задания ходил. Лапами рельс разворотил – поезд под откос. Оружие к нему привязывали, одеяло и коньяк – и он в снегу раненого солдата находил. Спас сорок шесть солдат, а сорок седьмой был контужен, в бреду. И застрелил медвежонка. Думал, что это дикий зверь его заломать хочет, а медвежонок ведь тоже был солдат. И его потом хоронят как солдата – и орден ему к шкуре прицепили, один с себя снял и прицепил, там плачут все, земля зимой холодная, он как ребенок спит. Потом памятник был – солдату Диме. Партизану. И все думали, что человек и герой, цветы носили по праздникам школьники туда, а выкопали как-то: медвежонок. И орден там же лежит. Скандал был, а потом нашли человека, который тот орден с себя снял, и медвежонков подвиг реабилитировали. Очень грустный фильм.
– Я не грустная! – запротестовала Глафира и вдруг начала хохотать. – С чего ты взяла, дурища, что я грущу? Отчего мне грустить? Вчера тоже Груздев мне говорит: «Глаш, Глаш, не грусти, лучше косы отпусти». Ха-ха-ха! – Зарокотала смехом, насмешливо смотрит на Ольгу, смеется. – Смешная ты, Ольга, – говорит. Потом гладит Ольгу по голове и нюхает руку, которой гладила. – Смешная, – повторяет. Потом надевает гимнастерку и уходит.