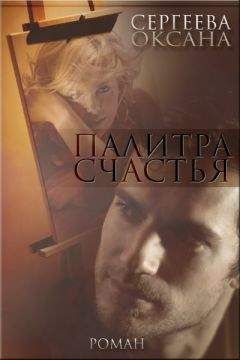Захар Прилепин - Обитель
– Ты будешь тут свои поговорки говорить, или, может, давай поработаем? – сказал Артём, потому что уже надо было что-то сказать.
– Баба тебе будет давать, а ты в ней хер полоскать, – сказал блатной и снова засмеялся, издевательски глядя на Артёма. – Так что давай без давай. Десятника хватает.
– Слушай, – наклонился к нему Артём, стараясь говорить в меру миролюбиво. – У тебя есть напарники, – тут Артём кивнул на других блатных, с едким интересом прислушивающихся к их разговору, – ты с ними будь, а я буду со своим дружком. Годится?
Афанасьев стоял тут же, несколько нарочито рассеянный и как бы не вникающий в чужой разговор.
Ксива толкнул балан так, чтоб он угодил бочиной в грудь Артёму, и только после этого сделал шаг назад. Напоследок ещё, ударив ладонью вскользь по воде, слегка обрызгал Артёма.
Тот не ответил: плескаться в ответ показалось глупым, и ударить сразу за это в лоб – тоже вроде не большого ума поступок. Стёр рукой брызги с лица, и всё.
* * *“А в воде попроще… – раздумывал Артём, отвлекая себя от противных мыслей о блатном, этот самом, как его, Ксиве, – работа получше, чем на берегу. Потому что одно дело – по воде толкать баланы к берегу, а другое дело – тащить их на себе посуху”.
Но Артём не угадал, конечно.
Баланы нужно было дотолкать до берега, потом хватать их – сырые, скользкие и ужасно тяжёлые – за один конец, в то время как другой подхватывали Моисей Соломонович с малорослым мужичком, и выползать на сушу.
Если четыре мужика могли справиться с баланом – значит, он был самого малого размера.
В ход пока шло молодое дерево, неширокое в объёме и длиной не больше пяти метров – чаще и поменьше. Но в воде виднелись такие великаны, которые и целым взводом не стыдно было бы нести.
Берег к тому же был каменистый – ступать по нему, еле удерживая балан, казалось мукой.
Сивцеву в пару достался китаец. Китайца Сивцев почему-то называл “зайчатина”. “Давай, зайчатина, мыряй глубже… – повторял он не без удовольствия. – Непапошный какой…”
Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артём с Афанасьевым, они ещё кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него – тот сразу, как-то по-детски, заплакал.
– Я работал в конторе! – всхлипывал он. – С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже!
“Юродивый”, – подумал Артём раздражённо.
– Начальник, да на хер он не нужен! – прокричал Ксива и тут же, торопливо загребая руками, ушёл вглубь, когда десятник направился к нему. На спине у Ксивы тоже были прыщи, они шли рядком, как белоголовые насекомые, по лопатке, через позвоночник и вниз к заднице.
Натрудив руки, наломав ноги, выволокли с горем пополам десяток баланов на берег.
“…А десятник сказал, что урок – сто!” – ошалело, но ещё способный в мыслях позабавить себя, подумал Артём.
С берега баланы нужно было тащить на лесопильный завод.
Пока поднимали, присаживаясь и надрывая спину, первый балан на плечи, Артём успел возненавидеть его как живое существо – неистово, пронзительно.
“Какой же ты, сука, тяжёлый, скользкий, хоть бы тебе всю морду изрубили топором, гадина…”
Впопыхах первый заход Артём сделал без рубахи. Ещё на полпути разодрал голое плечо о дерево.
Дорога оказалось неблизкой, по кочкам и кустам. Артём неустанно обмахивался от комарья. Афанасьев, даром что поэт, оказался выносливым как верблюд: “Хорош танцевать, Тёма!” – просил он, тяжело дыша в нос.
Нос балана несли Сивцев с китайцем, Артём неотрывно смотрел китайцу в чёрный затылок.
На лесопильном визжала пила – не видя пути, Артём по звуку понимал, что они близко, ещё ближе, ещё… вот, кажется, пришли. На “три, четыре” – командовал Афанасьев – сбросили балан – такая благодарность во всём теле вспыхнула на мгновение. Вот только комарьё…
Неприветливый, надгорбленный работой мужик вышел из помещения, посмотрел на прибывших и, не поздоровавшись, исчез в дверном проёме.
Обратно Артём бежал почти бегом – к своей рубахе.
– Куда погнал? За работой соскучился? – крикнул вслед Афанасьев.
Мокрое бельё противно свисало. Артём чувствовал свою закоченевшую, сжавшуюся и ощетинившуюся мошонку. Вдруг вспомнил, что забыл хлеб в кармашке, сунул руку – так и есть, пальцы влезли в сырой и гадкий мякиш. Оскользнулся на кочке, упал, непроизвольно выбросив вперёд руку – как раз ту, что сжимала хлеб.
Осталось немного на пальцах: Артём лежал на траве, животом чувствуя холодную илистую воду… облизывал руки в хлебной каше.
– О, затаился, – раздался позади голос Афанасьева. – Оленя выжидаешь в засаде? Или на лягушек охотишься?
Артём поднялся, почувствовал: вот-вот заплачет. Вертел головой, чтоб Афанасьев не увидел.
Это был последний хлеб, впереди ещё два дня оставалось на пшёнке и треске.
…Справился с собой, сжал зубы, вытер глаза, заставил себя обернуться и улыбнулся Афанасьеву. Получилось – оскалился.
Сивцев обратно не торопился и передвигался почему-то на корточках. Ягоды собирает, догадался Артём.
Ему ягод не хотелось. Дотащили два балана – оставалось девяносто восемь.
На следующей ходке стало жарче, хотя день был стылый.
Обратил внимание на Сивцева – тот был будто бы в сукровице: поначалу Артём подумал, что мужик разбил висок вдребезги. Оказалось – ягоды: намазал рожу от комаров, деревенский хитрец.
Возвращаясь, Артём тоже попытался найти какой-нибудь хоть бы и шикши. С первого раза не получилось – десятник Сорокин заскучал на берегу и пошёл встречать припозднившихся работников: снова разорался как обворованный.
Во второй раз Артём угодил на ягодную россыпь – чёрт знает что за ягода, но весь умазался. Втирал с таким остервенением, словно узнал, что смерть подошла к самому сердцу, а тут попалась живая ягода, может уберечь.
…Хоть на глаза и лоб перестали садиться.
Мелкого мужичка, которого никто не знал, как зовут, материли теперь все подряд, кроме Моисея Соломоновича. Мужичок поминутно останавливался передохнуть, едва вставал – тут же норовил спотыкнуться и завалить балан, охал и вскрикивал.
Когда солнце зашло за полудень, мужичок отказался работать.
Подошёл, хромая на все ноги, к десятнику и сказал:
– Убей, я не могу.
– И убью, – ответил десятник и начал убивать: сшиб с ног, потоптал мужичку лицо, несколько раз вогнал сапог в бок, крича при этом: – Будешь работать, филон?
Работающие остановились – всё отдых. Кто-то даже закурил. Один китаец отвернулся, присел и глаза закрыл, как исчез.
– Я не могу! Не убей! – слабым голосом вскрикивал мужичок. – Не могу! Не убей меня!
Артём тоже тупо смотрел на это. “То – «убей!», то – «не убей!»”, – мельком заметил про себя.
Если бы мужичка убили бы сейчас же, он бы, наверное, ничего не почувствовал.
“…Какое всё-таки странное выражение: «Не убей меня!», – снова заметил Артём. – Никогда такого не слышал…”
Когда кто-то крикнул: “Хорош, слушай!” – Артём какую-то долю мгновения даже не понимал, что это крикнул он сам. По щеке Артёма пошла трещина – ягодный сок присох, а рот раскрылся и щека будто пополам надорвалась.
Десятник, нисколько не задумываясь, развернулся и уже в развороте забросил дрын в Артёма, как в чистое поле.
Артём едва успел пригнуться, а то ровно в лоб бы угодило.
– Принеси, шакал, – скомандовал ему десятник.
В глаза десятнику Артём не смотрел, на других лагерников тоже. Скосился на двоих конвойных – они наблюдали за всем происходящим с единственным и очень простым чувством: им хотелось, чтоб кто-нибудь дал им причину озлиться. Один даже привстал и всё перетаптывался – так не терпелось.
Артём сходил за дрыном – тот лежал неподалёку на камнях. Не поднимая глаз, отдал его десятнику.
За всю эту тошную минуту к нему не пришло ни одной мысли, он только повторял: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам”.
Выхватив дрын, десятник замахнулся на Артёма – но тот с не свойственной ему поспешностью и незнакомой какой-то, гадкой суетливостью увернулся и, ссутулившись, побежал к воде – работа, работа заждалась.
Даже рубаху не снял – так и влез в ней сразу по самую глотку.
Остальные тоже полезли за Артёмом.
– Мне не по силам, гражданин десятник, – по слогам умолял мужичок на берегу десятника, – не-по-си-лам. Сердце в горле торчит! Умру ведь!
Когда Артём с Афанасьевым подгоняли очередной балан к берегу, выяснилось, что десятник взамен работы придумал мужичку другое занятие.
Встав на пенёк, мужичок начал выкрикивать:
– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!
Ксива заржал, другие блатные тоже захехекали.
– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти! – повторял мужичок как заведённый.
– Две тысячи раз, я считаю, – сказал десятник Сорокин, довольный собой.