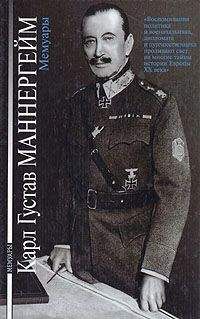Захар Прилепин - Грех (сборник)
Через час в дверь начали долбить. Алёша был уже пьян, к тому же с другом.
Друг, правда, показался мне хорошим парнем, с детским взглядом, здоровый, выше меня, очень милый – маленькие уши на большой голове, тёплая ладонь. Он почти всё время молчал, даже не пытаясь участвовать в разговоре, но так трогательно улыбался, что ему всё время хотелось пожать руку.
Я показывал им свои хлеба, свои лотки. Провёл в ту каморку, где последнее время скучал ночами, словно в ожидании какого-то облома, толком не зная, как именно он выглядит: с тех пор, как в четвёртом классе старшеклассники последний раз отобрали у меня деньги, никаких обломов я не испытывал.
Водку ребята принесли с собой.
– Скоро будет тёплый хлебушек, – посулился я.
К тому времени, когда хлебушек привезли, мы все уже были пьяны и много смеялись.
Алёша как раз показывал мне подарки для своей дочуры. Сначала странного анемичного плюшевого зверя, которого я, к искренней обиде Алёши, щёлкнул по носу. Потом книгу «Карлсон» с цветными иллюстрациями.
– Любимая моя сказка, – сказал Алёша неожиданно серьёзно. – Читал её с четырех лет и до четырнадцати. По нескольку раз в год.
Он сообщил это таким тоном, словно признался в чём-то удивительно важном.
«С детства не терпел эту книжку…» – подумал я, но не произнёс вслух.
Топая по каменному полу, чтобы открыть окошко, в которое мне подавали хлеб, я вспомнил, как только что, нежно хлопая своего нового друга по плечу, Алёша сказал:
– Пей, малыш! – и, повернувшись ко мне, добавил: – А ты не малыш больше. – И все засмеялись, толком не поняв, отчего именно.
Спустя минуту, хохоча, мы разгружали хлеб втроём. Водила – кажется, тот самый – с интересом поглядывал на нас. Принимая последний лоток с хлебом, я ему по пустому поводу нагрубил. Он ответил – впрочем, не очень злобно и даже, немедленно поняв мой настрой, попытался исправить ситуацию, сказав что-то примирительное. Но я уже передал лоток новому другу Алёши и пошёл открывать дверь.
– Стой, сейчас я выйду, – кинул я водиле через плечо.
По дороге вспомнил, что иду к дверям без ключей, ключи вроде бы выложил на столе в каморке. Вернулся туда, никак не мог найти, двигал зачем-то початые бутылки и обкусанный хлеб. Ключи нашёл во внутреннем кармане спецовки – чувствовал ведь, что они больно упираются, если лоток к груди прижимаешь.
Когда я вышел на улицу, грузовик уже уехал. Из помещения на улицу шёл хлебный дух.
Выбрел за мной и Алёша с сигаретой в зубах. Следом, мягко улыбаясь, появился в раскрытых дверях его спутник.
Мы кидали снежки, пытаясь попасть в фонарь, но не попадали – зато попали в окно, откуда, в попытке спасти от нас уличное освещение, неведомая женщина грозила нам, стуча по стеклу.
Дурачась, мы столкнулись плечами с Алёшиным другом, и я предложил ему подраться, не всерьёз, просто для забавы – нанося удары ладонями, а не кулаками. Он согласился.
Мы встали в стойки, я – бодро попрыгивая, он – не двигаясь и глядя на меня почти нежно.
Я сделал шаг вперёд, и меня немедленно вырубили прямым ударом в лоб. Кулак, ударивший меня, был сжат.
Очнувшись спустя минуту, я долго тёр снегом виски и лоб. Снег был жёсткий и без запаха.
– Упал? – сказал Алёша, не вложив в свой вопрос ни единой эмоции.
Я потряс головой и скосил на него глаза: голову поворачивать было больно. Он курил, очень спокойный, в прямом и ярком от снега свете фонаря.На следующий день мне позвонили из представительства легиона. Я сказал им, что никуда не поеду.
Чёрт и другие
Раз в полгода за стеной раздаётся звук подбираемого одним пальцем на пианино гимна:
– Союз… не… до… неруши… мый!.. до… ми… ре… ре… спу… блик!.. республик… сво… до… свободных…
Потом Нина задумывается надолго… её зовут Нина, ей сорок лет, она давно в разводе.
Захлопывается крышка. Ещё полгода гимн я не услышу.
У неё есть дочь пятнадцати лет. Год назад она была незаметна, лишена цвета и запаха, чёлка какая-то попадалась иногда, лица не было никакого, глаз она не поднимала.
Помню только, однажды они с мамой играли в бадминтон прямо во дворе. Понятно было, что дочка попросила составить компанию, мать из жалости согласилась – никто с её чадонькой не дружит! – но при этом чувствовала себя совсем неудобно и всё поглядывала на соседские окна. Игра никак не ладилась. По-моему, никто из них так и не взял ни одной подачи. Ударит мама. Ударит дочка. Ударит мама. Ударит дочка… И всякий раз лезут в кусты, долго ищут оперившийся прыткий шарик.
Кот из соседнего подъезда смотрел брезгливо за всем этим. Я сразу сбежал, чтоб не видеть, но не забыл вот.
А этой весной дочь вышла вдруг из подъезда и «здравствуйте» говорит. Будто три монеты уронили в стакан тонкого стекла.
Смотрит в лицо.
Я поднял взгляд и зажмурился.
Мое ответное «здравствуйте» хрустнуло, как древесная кора.
На ней белые, словно мороженое, кроссовки на толстой подошве, джинсы расклешённые, а курточка с маечкой такие, словно с младшего брата сняла – до пупка не дотягивают.
Хотя младшего брата у неё нет.
Имя её я не знаю. Есть какое-то имя вроде, но не знаю.
Днём в подъезде стоят её знакомые малолетки – одноклассники, наверное. Разговаривают так, словно у них насморк. Даже не касаясь их, я знаю, что пальцы у них мокры и холодны. Положи на батарею – батарея начнёт промерзать. Положи в один карман рыбу, в другой такую руку – полезешь и не различишь где что. Зачем природа так не любит подростков с их, знаете, кожей, с их воспалённым… ну чем воспалённым? всем воспалённым.
Вечером появляются другие: на прекрасно дрессированной машине подъезжают двое, оба в узких чёрных ботинках, один в ароматном джемпере, второй в чёрном костюме – белая рубашка, воротничок – как будто только что сдавал бухгалтерский отчёт. Сдал на «пятёрку».
Соседка спускается к ним и, задыхаясь от чего-то, курлыкает возле машины, а они будто бы распушаются, и перья их наэлектризованы – просто не видно под джемпером и под пиджаком, как там всё с лёгким треском искрится.
В машине мягкие сиденья. В кармане чёрного пиджака презервативы.
Слышу, как Нина открывает окно и громко произносит:
– Тут разговаривайте, поняла? Никуда не уезжай. Слышишь или нет?
– Слышу, мам, – отвечает дочь спокойно и снова тихо курлыкает.
Потом машина послушно заводится, а через минуту хлопает дверь подъезда – девушка возвращается в квартиру к маме, улыбаясь самой себе.
Тем временем эти двое в машине говорят друг другу всякие пакости.
На ночь Нина кормит доченьку творожниками и пирожками. Она всё время готовит, а я тоскливо принюхиваюсь, пытаясь различить начинку.
Другой сосед профессор, изучает какие-то точные науки, зовут Юрий, отчество забыл. Он никогда не улыбается и, уверен, даже не умеет этого делать. Половик возле его дверей самый чистый. Впрочем, возле моей квартиры вообще нет половика.
Когда Юрий поднимается на площадку, он всё время приговаривает что-то. Дословно не разобрать, но что-то вроде: «…отвратительно… грязь!.. как самим не стыдно… это же натуральное извращение… ничто иное!.. нет, просто безумие какое-то…»
Если Нина играет гимн раз в полгода, то Юрий пылесосит раз в полтора часа, иногда чаще. Пылесос звучит остервенело и огрызается, как загнанный.
Однажды я курил в подъезде, Юрий зачем-то открыл дверь – сначала первую, деревянную, в три замка, потом вторую, железную, ещё в три замка. Глянул на меня и тут же закрылся, спасаясь, быть может, от микробов, ну и вообще от того, что я пылен, испепелён, тленен.
Однако я успел заметить, что он был в накрахмаленном белом фартуке, синих, выстиранных до бесцветности домашних брюках и в бахилах на ногах – вот как в больницах и поликлиниках выдают бахилы на резиночках, чтоб не топтали, – так он ходит по дому. Под бахилами были тапки. Носки его тоже успел заметить, под укоротившимися от стирки брюками они смотрелись как гольфы.
За спиной Юрия мелькнул его сын, тоже, кажется, Юрий, симпатичный парень лет восемнадцати. И он был в бахилах, я точно видел.
Дверь захлопнулась, вослед за ней деревянно гаркнула вторая, и тут же включился пылесос – профессор Юрий приступил к истребленью сигаретного дымка, проникнувшего в дом.
Мы с Ниной однажды столкнулись лицом к лицу в подъезде, перекинулись парой слов, чуть повышая голос – Юрий как раз пылесосил.
– Чистоту любит сосед, – сказал я чуть иронично.
– Не был у него дома? – спросила Нина.
– Кто же меня пустит, такого грязного.
– Там как в операционной, – сказала Нина внятным шёпотом – будто опасаясь, что даже через истерзанное рычание пылесоса Юрий способен нас услышать.
Женщины в его дому не водилось.
Но как-то ночью я услышал у соседей крики и внятный шум борьбы. Привстав на кровати, порыскал включатель, зажёг резкий и жёлтый свет.
Раздававшаяся в ночи речь была невнятна, но мужские голоса, похоже, принадлежали Юрию и его сыну. И ещё был женский голос – он вскрикивал и рыдал; рот женщины будто бы затыкали, зажимали всё время.