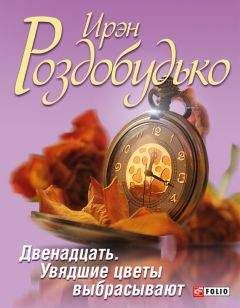Александр Солин - Вернуть Онегина. Роман в трех частях
«Не надо, сядет!» – отмахнулся Сашка.
И тогда все тот же кто-то азартно предложил:
«А давай еще одну катушку!»
«А давай!» – возбудился Сашка.
Привязались ко второй катушке и продолжили восхождение. Змей стал едва различим, зато нитку пришлось удерживать двумя руками. На другом ее конце вдруг возникла невидимая борьба – возможно, земное змеиное любопытство не понравилось высшим сферам, и им занялись чьи-то жестокие лапы. Незадачливого шпиона хватали за горло, били кулаками в плоское белое лицо, дергали за длинный пугливый хвост – он в ответ извивался и отбивался, как мог. Сашка принялся подтягивать нить и лихорадочно наматывать ее на катушку, но было поздно: нить, следуя скучному закону «где тонко, там и рвется» лопнула, физика полета нарушилась, и под громкие крики разочарования змей был опрокинут и низвергнут с небес.
Именно тогда, а вовсе не в тот день, когда от них с матерью ушел отец, она и ощутила острое чувство потери.
В сентябре, изнемогая под грузом волнения и напутствий, Алла Сергеевна впервые в жизни (если не считать отроческих выездов за десять километров в пионерлагерь) покинула пределы города и в компании двух подружек отправилась в Омск подавать документы в заочный институт текстильной и легкой промышленности. Весь путь занимал у московского поезда несколько часов на восток, и когда спустя полчаса после отправления она, морщась от густого спертого воздуха дальнего следования, отправилась через плацкартную человеческую начинку в туалет, а затем вернулась и уселась по ходу поезда, то получилось как в детской игре, когда тебе завязывают глаза, закручивают, а затем, потерявшуюся в пространстве, отпускают на поиски трепещущих обоеполых юных тел: ей вдруг весьма убедительно представилось, что она едет… к Сашке в Москву! Самообман оказался заразителен, и она еще несколько раз искусственно впадала в него, закрывая глаза и направляя воображение в нужную сторону.
Ее, конечно, зачислили, о чем она тут же уведомила письмом Сашку, наказав не писать ей до середины октября, пока она не вернется домой. Вернувшись, она все же нашла на своем столе его письмо, в котором он телеграфным образом поздравлял ее и себя с их общим достижением.
Объединив отныне жизненный и трудовой пути в один большак, она загарцевала по его бездорожью на белом скакуне воодушевления и, размахивая деревянным мечом благих молодых намерений, атаковала техбюро швейной фабрики, куда была зачислена с первого сентября восемьдесят третьего года на должность технолога, о чем и указывала в анкетах вплоть до скоропостижного и непостижимого развала пирамидально-сотового здания плановой системы.
Направляемая новым для себя статусом, взрослеющим благоразумием и равнодушием к материальным благам, придерживаясь образцово-показательного образа жизни и мыслей, она довольно легко пережила осень, а за ней и бóльшую часть зимы. Теперь ей уже трудно вспомнить точную расцветку той яркой ткани, в чьи узоры она была вплетена тем благословенным временем. Остались лишь упрямые утверждения памяти о том, что ее отношения с миром в ту пору были прочны, возвышены и терпеливы.
Помнится, посовещавшись утром с наружным воздухом по поводу верхней одежды, она отправлялась на работу. После подошвенного, нижнеконечностного, почти по Брайлю чтения потрепанных рукописей тротуаров и обочин, четырежды в год менявших содержание; после довольно-таки однообразного переглядывания с заборами, деревянными домишками и низкорослыми кирпичными строениями, десятилетиями не менявшими своего положения, роста и заброшенного вида, она попадала на фабрику, где после утренней переклички приступала к трудовым обязанностям и подставляла плечи под комсомольские нагрузки.
Стараясь не замечать подчеркнутого внимания редких на таком производстве мужчин, она, тем не менее, не уклонялась от призывно-робких взглядов мастера Феди, считая их безобидными и ободряющими. Кроме того, ей регулярно случалось украшать собой общество близких подруг, где она стихийным коллективным психоанализом укрепляла силу духа. Все остальное время она, готовясь к решительному наступлению на Москву, посвящала расширению образовательного плацдарма и укреплению общекультурных позиций.
И среди этого репетиционного однообразия особняком, привилегией, радостью возвышался знойный остров ее чувства, над которым парил в вышине далекий московский змей. Ее разлученное сердце было в тот раз четырежды поддержано общеукрепляющими телефонными инъекциями. Обнаруживая в интонациях его голоса достаточное количество заботливых, душевных ноток, она приходила к выводу, что их полет протекает нормально.
Эти разговоры и те письма, которые она регулярно отправляла ему по звенящей струне их связи, сделали свое дело, и в феврале Сашка в очередной раз спланировал на ее благоухающий цветник. Пересчитав и обследовав все его цветы, соцветия и прицветники – однодомные, цельные, длиннореснитчатые, овальные, сердцевидные, бутоноподобные, прямостоячие, гладкие, местами опушенные, с поперечными трещинками на приоткрытых губах – он с жарким дыханием и как бы ненароком коснулся ее перламутрового омута. Она замерла, а он, чуть помедлив, погрузил туда жадные, обветренные полетом губы, чем обратил ее тлеющий стыд в танцующее пламя. Возможно ли описать то, что ей довелось испытать, когда на смену экзотичному разогреву на сцене появился гвоздь программы собственной персоной. Скажем только, что в результате получился полусюрприз, полуэкспромт, полугреза и полное безумие…
14
Ему никогда не приходило в голову сомневаться в ее верности, она же, едва оправившись от его ошеломительного штурма, ощутила себя поделенной надвое: одна ее половинка требовала продолжения неведомого удовольствия, другая самым категоричным и возмущенным образом хотела знать, где и как он этому научился. Разумеется, она слышала от неразборчивых подруг о таком мужском обхождении, но не представляла ни сладости, ни томительной власти этой оргастической преамбулы, отчего у нее раньше и в мыслях не было его к этому склонять.
Сашка, вздернув брови и тараща глаза, что по его разумению должно было снабдить его лицо выражением возмущенной невинности, принялся рассказывать о бесстыдных старших товарищах, которые в обстановке неопрятного студенческого застолья делились с ним богатым мужским опытом.
«Ты что, думаешь, что я мог себя так вести с кем-то еще, кроме тебя?! – с картинным ужасом восклицал он, глядя ей в глаза и изо всех сил сдерживаясь, чтобы не моргать. – Да как ты могла такое подумать! Да там со мной такие половые зубры проживают: о-го-го, сколько знают! Чего только не знают!»
«Ну, например…»
«Лучше тебе не знать…» – почему-то застеснялся он.
«Нет уж, теперь говори!» – потребовала она, краснея и желая знать, что такого знает он, о чем не слыхала она.
Он долго отнекивался, заверяя ее, что никогда не скажет, а уж тем более не позволит ни ей, ни себе заниматься тем, чем тешат свои скотские желания люди определенного сорта. Однако она очень, ну, очень сильно хотела знать, как низко могут пасть некоторые люди, и тогда, уступая ее стыдливому любопытству, он назвал ей имя запретного плода, половинку которого только что при ней употребил.
«Ты что, хочешь, чтобы я…» – заливаясь краской, начала она.
«Ни в коем случае! – с заботливым испугом перебил он ее. – Я – это я, а ты – это ты!»
Больше они ни о чем таком в тот его приезд не говорили, но подставляя себя под его старательный, трудолюбивый рот, она с замиранием, в котором странным и острым образом мешались стыд, принуждение и охота, думала, что ведь рано или поздно ей придется надкусить вторую половинку запретного плода…
Те их февральские, уплотненные до предела свидания были, вне всякого сомнения, также горячи и сладки, как и все предыдущие. Правда, ее впечатления были слегка подпорчены его поверхностным, легковесным вниманием к ее успехам – они, как и ее верность заведомо признавались им непреложными и само собой разумеющимися. Был он, как всегда, голоден и ненасытен (восхитительное, убедительное свидетельство его стойкости!), но все же находил время, чтобы терпеливо и снисходительно ответить на ее ученые вопросы. Например, помог ей составить план подземных ходов, ведущих в неприступную крепость математики, тем самым позволив ей если и не захватить, то хотя бы проникнуть на ее территорию. Иллюстрируя свои объяснения нежно-чмокающей указкой щекотливых губ, он бродил по обнаженным частям ее тела, увлекался, сбивался на игривый тон и норовил забраться в далекие от математики края. Она, настроенная на серьезный ученый лад, с притворной строгостью отмахивалась, восклицая: «Ну, Сашка, противный, ну, отстань, ну, потерпи!», а про себя умеренно удивлялась: «Надо же, до чего ненасытный!»
Впрочем, таковы были благословенные симптомы затяжной любовной болезни, лечить которую он, а тем более она не собирались. Их сердца по-прежнему находились в центре нежной трепетной паутины, не допуская к себе кого бы то ни было ближе, чем дозволяла их мятая постель. Ни его, ни ее мать, судя по их пусть и недовольному, но пассивному виду, не догадывались о том, как далеко зашло дело. Разумеется, и он, и она прилагали все необходимые уловки и навыки, дабы пузырем ее живота не возвестить всему миру об их внебрачной неловкости. Между собой они положили пределом стерильности ее пятый курс – то счастливое недалекое будущее, когда беременность уже не помешает ее учебе. К тому же Сашка считал, что оставшегося времени им вполне хватит, чтобы устроиться в Москве и пожить в свое удовольствие. Стоит ли говорить, что от их семейных планов у нее приятно постукивало сердце, и радостно замирал вполне созревший материнский инстинкт.