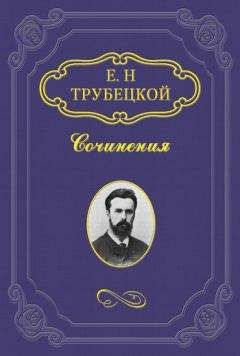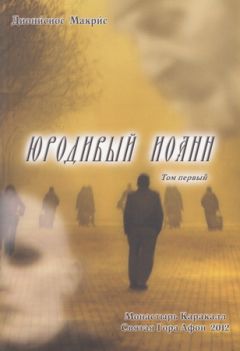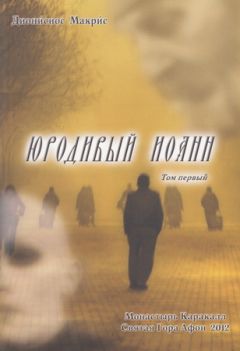Елена Лактионова - Свободных мест нет. Рассказы советских времен (сборник)
Другую стену Данилушкин тоже оклеил на всякий случай, потому что то ли за ней, но уже в другой квартире, то ли внизу жила учительница музыки, днем к ней приходили ученики и долбили по клавишам:
В тра-ве си-дел куз-не-чик.
И еще Данилушкин хотел потолок оклеить, потому что почти каждую ночь в те часы, когда в каторжных муках пытался он ухватить хоть за краешек давно ушедшее вдохновение, кто-то начинал бегать на шпильках по потолку, – вернее, по дощатому полу в верхней квартире: тук-тук-тук, тук-тук-тук – туда-обратно, туда-обратно. Данилушкину воображалось, что это от его верхнего соседа каждую ночь порывается уйти оскорбленная им любовница, и бегает по комнате в одних туфлях, собирая разбросанную в страсти одежду, выкрикивая обидные слова и размазывая по пудре черные слезы. А тот просит у нее прощения, и уговаривает остаться, и она утихает, сбрасывает свои шпильки и снова ныряет к нему в горячую постель. Дурак! Зачем он ее уговаривает? Спустился бы лучше к Данилушкину, поговорили бы…
В этот вечер Данилушкину особенно было хреново. Звезды, наверное, уж так над ним сложились, – ничего не поделать. Да еще ответ очередной ему из журнала пришел, куда Данилушкин творения свои посылал. Писал ему некий литконсультант, которому выпало читать стихи Данилушкина, что человек вы, видно, способный, и жизнь знаете, но не подходят нам ваши стихи: упаднические они какие-то, нет в них торжества жизни. А в конце письма желал Данилушкину творчески успехов.
С чего ему быть-то, торжеству? Упаднические, потому что сам Данилушкин в упадке находится, и не будет у него, наверное, никогда торжества. И творческих успехов тоже не будет.
Тут динозавриха с гостями пришла и включила свою замечательную аппаратуру – вот у кого сплошное торжество жизни!
Вояж, воя-яж, —
пела иностранная певица завораживающим голоском, —
вся наша жизнь вояж.
Данилушкин не знал того иностранного, но, наверное, именно об этом она и пела. И представил себе Данилушкин эту заграничную певицу: сексапильную, наверное, до умопомрачения, ухоженную до неправдоподобия, со струящимися змеиными движениями, – умеют же они себя подать, сволочи; такая, небось, отвращения не вызовет.
Вояж, воя-яж…
И так невыносимо стало Данилушкину, что взял он флакон с одеколоном (а хоть и получал Данилушкин гроши, одеколоны любил дорогие, желательно импортные, сказано же: тонкая натура) и бухнул всё содержимое в стакан. Нюхнул: нежный аромат жидкости цвета любимого вина Данилушкина – «Деброй» шибанул в нос. Никогда с ним этого не случалось, а тут выдохнул глубоко Данилушкин и опрокинул всё одним махом в глотку. Задохнулся сначала, рот открыл, а оттуда – такой запах… Желудок вдруг судорожно сжиматься стал и толчками подкатываться к горлу. Выбежал Данилушкин в коридор, дернул дверь туалета – занято, на кухне в раковине посуду мыли, а ванной в квартире не было. Побродил он по коридору – желудок, вроде, на место улегся, прошло, – вернулся в комнату. Тут одеколонные пары прямо по мозгам ударили, пошатнулось и поплыло всё в глазах Данилушкина: и стены его, в клеточку, как пчелиные соты, и диван его развалюшный, скрипучий, и стол облезший, прежним жильцом-счастливчиком ему завещанные, – а больше не было ничего в комнате у Данилушкина.
А потом, когда всё немножко улеглось, такая вдруг невообразима тоска свалилась на Данилушкина, что стал он поскребывать ногтями по столу и подвывать тихонечко. Задрал он голову в очередном подвывании и увидел крюк на потолке, с которого вместо люстры лампочка на проводе свисала. И перестал выть Данилушкин, на крюк уставился.
Тут на кухне загремела, слетев с полки, у кого-то кастрюля, и внеурочно заколотила по отбивным, как по наковальне, соседка-чревоугодница, и, взвизгнув, заурчала стиральная машина, перемусоливая целомудренные простыни одиноких матерей, и чайник с паровозным свистком посвистывать зачал, силами набираясь. А динозавриха бессовестно кокетничала с кем-то по телефону, оставив приоткрытой дверь в свою комнату, откуда доносилась матерщина ее удачливых гостей и звала в далекое путешествие струящаяся:
Вояж, воя-яж, —
уж не на том ли паровозе, который раздавливал каждое утро Данилушкина, и сейчас, чувствовалось, уже шипел парами и набирал скорость? И понял Данилушкин, что ни одного наезда этого чудовища не перенесет больше: предел наступил.
И пододвинул он стол под лампочку, на стол стул поставил: высоченные потолки в квартире, не дотянешься так просто, – взобрался на стул и осторожно, чтобы не дернуло током, перерезал ножницами сначала один провод, потом другой, и отогнул провода в сторону, словно боясь, что убьет его прежде времени.
Воцарился полумрак. Только уличные фонари освещали улей Данилушкина, отбрасывая на клетчатые стены зловещие тени. Попробовал Данилушкин крюк на прочность – крепко держится: дом старый, еще до революции строили. Снял со спинки стула свой любимый темно-синий галстук, из одного конца петлю сделал, другой за крюк закрепил. И перед тем, как в петлю голову сунуть, подумал: раз такое дело, неплохо бы всех соседей перерезать. Но лень ему было спускаться и идти за ножом на кухню. И еще подумал Данилушкин, что они, наверное, очень кричать будут, а никаких криков он не мог больше переносить. И накинул он на шею петлю и прикрыл глаза…
Вояж, воя-яж…
И оттолкнулся-отчалил Данилушкин с силой от стула, и отлетел стул, упал со стола, – чтобы не оставалось никакого островка спасения у Данилушкина (разве что учительница музыки со своим обостренным слухом услышала грохот падающего стула и подумала раздраженно: «Господи, что у них там?!»). И захрипел Данилушкин, задыхаясь, и ногами засучил, успел еще рвануть на груди рубаху, а до горла не дотянулся, и завис-закрутился на крюке, – крепкий крюк попался, и галстук импортный, еще женой подаренный, тоже выдержал Данилушкина и затянулся хорошо.
А грохочущее-веселяцийся состав, набрав полную мощь, с лихим свистом проносился уже мимо Данилушкина и летел неудержимо вперед. И остановка его предназначалась только в каком-то далеком и непонятном завтра, но дождаться этого «завтра» у Данилушкина сил не хватило…
А динозавриха, накричавшись всласть, ушла к гостям, дверь настежь оставила, – пусть все слушают, жалко, что ли:
Вояж, вояж,
Вся наша жизнь —
вояж.
1989
Минутка
С чего конкретно началась ссора Петр Афанасьевича и его соседа Степана, наверное, ни он, ни Степан, не вспомнили бы. Впрочем, отношения были чисто соседскими, не больше. На первых порах дружили только дети, да жены калякали друг с другом через забор о поселковых новостях, грядках, о погоде.
Может быть, всё началось со смежного забора, который, сначала будучи деревянным, ветшал, гнил, а потом и вовсе завалился на сторону. К этому времени хозяева домов с дворами, меняя прогнившие заборы, стали плести сетки на добытых где-то, а то и самими смонтированных станках. Шла возня с добыванием труб на столбы, проволоки, цемента и проч. У Степана был станок, и он предложил Петру Афанасьевичу, чтобы тот доставал проволоку себе и ему, Степану, а он сплетет. Стали рядиться, кому что доставать на общий забор. Получалось так, что почти всё приходилось на Петра Афанасьевича.
– Афанасьич, – говорил Степан, – ведь ты ж начальник.
– Ну что ж, что начальник? Что же, мне даром всё достается, что ли?
Наконец, кое-как порешили, что проволоку и столбы на общую сторону и еще на одну Степанову достает Петр Афанасьевич, а цемент, тоже на обе стороны: общую и соседскую, и работа – будут Степана. И еще Степан после того, как себе сетку сплетет, даст станок Петру Афанасьевичу.
Вера, жена Петра Афанасьевича, узнав об этом, долго пилила мужа, что тот согласился на такой грабеж: столбы-то с проволокой стоят гораздо дороже, чем цемент. Но Петр Афанасьевич, не терпя никаких тяжб и склок, только отмахивался: «А, ну его». Но Вера этот «грабеж» всегда помнила и обиды копила, при случае напоминая о них мужу.
А обиды понемногу накапливались: то Лида, жена Степана, опять денег, взятых в долг, не отдает без напоминаний, то «вонь несусветная» от соседского поросенка, то «больно часто печку топят: сажа летит».
Славик, сын Веры и Петра Афанасьевича, с соседским Любком и вовсе разодрались после того, как тот оказался среди лазутчиков за их ранней анисовкой, еще с улицы привлекавшей прохожий.
– Попадись мне только на улице, жирный гад, морду изобью! – крикнул тогда Славик сбежавшему через забор Любку.
И тот старался не попадаться.
Другими, постоянными предметами раздора были: абрикос, что Вера вырастила из косточки и весь август стоял усыпанный оранжево-желтыми ароматными плодами, и груши, росшие слишком близко к Степанову двору. Вера злилась, что «половина урожая у них», а Степан ворчал, что деревья дают большую тень на его огород, засаженный картошкой и кормовой свеклой для поросенка.