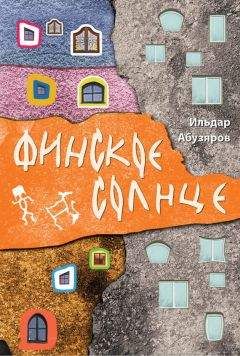Ильдар Абузяров - Курбан-роман
Общее помещение, как говорили служащие почты, было еще более низким и мрачным. Я поймал себя на мысли, что шаг за шагом погружаюсь в пласт пыльной истории, в дремучий палимпсест символов. За долгие месяцы занятий японским я проникся восточной культурой и, как мне казалось, пристрастился созерцать. Во всех предметах я искал изысканной красоты. Попадись мне сейчас на глаза хоть одна стоящая вещица, я бы по достоинству оценил ее, особенно на фоне здешней безликости. И такая вещь попалась, но не сразу…
Замок я положил в пакет, и, как только мы переступили порог, он брякнул о железные ящики. Раздался звон, сравнимый, пожалуй, только со звоном японских мечей. Он был такой силы и ярости, что я долго не решался сделать шаг, опасаясь, что следующий удар затаившегося в сумерках самурая придется уже на мою голову. Впрочем, и от первого удара было неуютно.
– Ну что ж вы, не стесняйтесь, проходите, располагайтесь за одним из столов, – предложила тут как тут появившаяся хозяйка помещения.
Впрочем, все столы были сдвинуты в один большой стол-щит, на краю которого лежали стопки свежих газет. Моя рука невольно потянулась к ним, и я, даже не спросив разрешения, взял верхнюю газету.
Сверху, там, где обычно пишут адресата, были написаны буквы “б/л”. Поскольку я был завсегдатаем библиотек, мне было известно, что это такое, хотя до сих пор не могу понять, почему именно “б/л”.
– Когда посмотрите, занесете мне ключи, а каталог можете оставить на столе.
Я остался один в сырой, низкой комнате. Все здесь – особенно ящики, раскрашенные под шахматную доску, и запахи – возбуждало мое воображение. Говорят, что Шиллер для вдохновения держал у себя на столе гниющие яблоки. А Бальзак нюхал кофе…
Я осмотрелся. На абонентском шкафу стояла белая чашка с отколотым краем. Абсолютно белая. Я разглядывал ее около получаса. Сначала сидя, потом лежа на сдвинутых столах. Потом я встал и отошел к окну, чтобы посмотреть с этого ракурса, и уж затем я подошел к чашке, желая подержать ее в руках.
Что я успел увидеть? Чашка стояла не на зеленом (цвет стены), а на синем фоне. Это значит, что за шкафами была еще одна дверь.
Я аккуратно взял чашку и покрутил ее в руках, осматривая со всех сторон. Затем я поднял ее как только мог высоко к потолку, чтобы посмотреть на нее снизу. С внешней стороны дна бледно-коричневой краской было написано: “Ручная работа, фарфор, Братислава”. Чашка была чешская, с тонкими стенками и оттого очень легкая. Она оказалась не совсем белой, а с нежной примесью розового. Изящная, тонкая работа. На верхней кромке остались следы ярко-коричневой помады. Кому она принадлежала?
Не успел я в волнении поставить чашку на место, как в зал вошла почтальонша. Я сделал вид, будто проверяю свой абонентский ящик. Насвистывая, я открыл его.
– О, – как будто удивленно произнес я, – письмо!
Странно, письмо оказалось без подписи. На белом конверте старательной рукой ребенка было выведено всего лишь несколько букв и цифр.
123321 – это индекс нашего почтового отделения и АЯ 123 – это мой абонентский ящик.
“Неужели это письмо очаровательной японки-незнакомки, учащейся, как и я, ходить по слогам нового языка?” – родилась у меня наивная надежда. Девушки, желающей завести знакомство с европейцем и выучить с помощью общения чуждый язык.
Почтальонша ушла. Точнее, я дождался, когда она скроется за дверью. И только тогда судорожно вскрыл письмо. Но внутри конверта ничего или почти ничего не было. Только листок. Осенний листок, одна половина которого была ярко-коричневой, как помада на чашке, как губы той, что прикасалась к фарфоровому обрыву, а вторая половина – ярко-красной, похожей на тот воспаленный кленовый лист, что показал мне язык час назад.
4Очарованный, я вложил листок в бледно-розовую чашку, создавая нечто вроде икебаны, и приступил к чайному церемониалу (так я называю процесс письма). Моя голова просто бурлила пузырями фантазий, изливая крутой кипяток видений на белоснежный фарфор бумаги.
Время от времени я бросал заинтересованный взгляд на ставшую вазой для икебаны чашку. Мне чудилось, что эта чашка – зашифрованное страстное признание в любви. Стоит только окунуть это зашифрованное послание в воспаленный поток воображения, как все прояснится.
Я уже говорил, что у японцев не принято целоваться. Что уж говорить о следах губной помады!
Предосудительно и даже неприлично выставлять на всеобщее обозрение чашку со следами губной помады. А значит, это не просто признание в любви, а жест отчаянья. Да, скорее это отчаянное признание, связанное с большим риском. Признание на грани жизни и смерти.
Я на секунду представил, что это может быть как-то связано с нарушением древних традиций. Что дочь вопреки воле отца выдать ее замуж за солидного господина, вопреки уже состоявшейся помолвке нашла жениха себе по сердцу и теперь тайно встречается с ним. Или даже не жениха, а призвание. Например, она тайно от родителей увлеклась книгами. И из книг узнала, что существует другая, отличная от уготованной ей участи, жизнь.
И вот теперь, одержимая страстью, она решилась идти до конца в своей любви к книгам. Она читает их запоем, сидя по вечерам у окна и попивая чай из розоватой чашки. Она мечтает о путешественнике, переселившемся на страницы ее воображения из книг. И даже заявляет семье, что собирается получить образование в Европе. А ее отец, конечно же, знатный воин, оскорбленный ослушанием до глубины души, выхватывает железной рукой свой самурайский меч из ножен и при всех домочадцах рассекает на своей дочери одежды, чтобы она не смела выходить из дома. Или даже не одежды, а книгу в ее руке. Чтобы дочь не смела больше гулять по ее аллеям.
5Мастер-переплетчик Марк уже год как закрыл свою переплетную мастерскую с большими ксероксом и принтером (“мини-типографию”) и занимался тем, что воровал письма из почтового отделения № 321, прямиком в которое вела потайная дверь из подсобного помещения его мастерской.
Не брезговал Марк и подъездами многоквартирных многоэтажек, где длинными китайскими палочками вытаскивал письма, словно улиток, из железных мисок почтовых ящиков. Кто-то собирает бутылки, кто-то марки, кто-то старые вещи, копаясь в мусорных контейнерах, а Марк вглядывался острым взглядом в прорези почтовых ящиков, выискивая, как деликатес, белое голубиное мясо конверта. Свежее письмо было для него лучшей пищей…
Письма Марк переплетал в одну большую книгу. Да, можно сказать, что Марк тихо сходил с ума, но был в его поступках и трезвый рассчет. Он лелеял надежду издать свою книгу неслыханным тиражом – все-таки концептуальное искусство, – снарядив ее для пущего полета заглавием: “Письма родных и друзей, не дошедшие до вас” и небольшим предисловием.
6Увидев, как плавно опускается на подоконник ее окна кленовый красно-коричневый лист, Августа поняла, что она запечатает в конверт, так похожий на белые фарфоровые чашки, в которых подают кофе на завтрак в их пансионате.
Августа делала все не спеша, как и подобает красивой, элегантной женщине. Не спеша запечатала конверт, не спеша вышла в парк и опустила конверт в почтовый ящик у железных ворот. Ящик долго не хотел принимать письмо из неумелых рук Августы, важничал, словно чиновник, надувший щеки и наевший пузо. И ничего уже не желавший ни видеть, ни слышать, ни понимать…
Затем Августа отправилась посмотреть на старушек, игравших в гольф.
– Привет, Августа, – остановил ее лечащий врач Юлий.
– Добрый день, – ответила Августа.
– Как твои дела? Эва говорит, ты сегодня написала кому-то письмо?
– Да, это так. Я его уже отправила.
– И кому же, если не секрет?
– Доктор, я и сама не знаю, кому. Просто пишу по велению сердца. Кто первый откликнется на мое осеннее послание, тому оно и адресовано.
– А-а, теперь понятно. Но ничего, ничего, Эвелина лично поговорит с почтальонами, чтобы твое письмо все-таки было отправлено. А пока я хотел бы знать, что же ты там такого интересного понаписала?
– А что придется. Зачем писать, если природа все уже написала за нас? Ведь деревья – это иероглифы, рассказывающие нам истории. Они – зашифрованные криптограммы, позволяющие всему живому преодолевать непонимание, культурные барьеры, время и пространства…
– Да-да, ты уже говорила. Смотри, не попади с этими историями в переплет, как уже было однажды с тобой в парке.
– Да, доктор, вы правы, я тогда ощущала себя частицей вселенной, чувствовала любовь ко всему окружающему. И деревья платили мне той же любовью. Они никак не хотели меня отпускать. И до сих пор не хотят. Я словно попала в чужую историю про девочку, что решила сбежать от своей семьи…
– Подожди, Августа, – прервал бред своей пациентки врач. – А марку?
– Что Марку? – От неожиданности Августа даже вздрогнула.