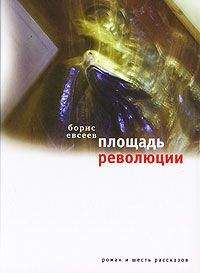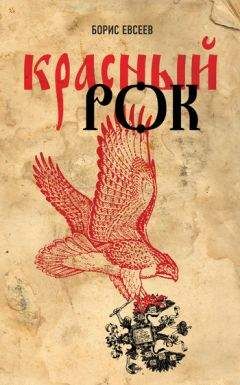Борис Евсеев - Офирский скворец (сборник)
– Из чучел в дальнейшем безупречные звери получиться могут, – говорил не однажды Голев пузенистому Ханадею, – смирные, ненадоедливые. А когда звери и птицы сразу живые – как-то норову в них многовато!
Ближе к вечеру, подвигав ушами-локаторами и подергав себя за красную, с вплетенными в нее жемчужными шариками бороду, Голев задумался о скелете и перьях скворца. Запах перьев с обеда витал близ его ноздрей: сладко-говняный, но и приятно-глинистый. Узнав от инженю Суходольской о том, что скворец попал в театр к Толстодухову, Голев разволновался.
– Ведь и косточек после Ионы не соберешь! Перышка малого, живоглот, не оставит! Сам живоглот, и театр его живоглотский! А я чучелку набью. Для утехи старшеклассникам. И назвать птицу можно будет как-то призывно: «чудесный рыловорот» или «священный страхоидол»…
Таксидермист позвонил в театр. Оттуда внаглую не ответили.
Мобилки Суходольской и Толстодухова тоже вдруг оказались вне зоны доступа. Тогда Голев самолично двинул в «Театр Клоунады и Перформанса», называемый промеж своих «Театром Ласки и Насилия».
Он зашел в ТЛИН со служебного входа, поднялся на второй этаж, раскрыл дверь бухгалтерии… То, что Голев увидел, превзошло его – надо сказать, весьма изощренные, – заглючки.
На полу лежали полтора трупа. На высоких стульях, рядом с трупом Чадова и полутрупом симпатичной бухгалтерши Гали, у которой была, по первому впечатлению, отнята нога, сидели актеры и заунывно твердили роли.
– Мы московский, мы школьный феатр! – завывали актеры на старинный лад. – Мы вам представим сейчас, кто мы есть, а пули лить не бу-удем…
– Я – Бомелий.
– Я – есть Девка-Чернавка.
– Я – Гаер.
– Я – Грек.
– И все мы в вертепе Ионы Толстодуха больше играть не станем!..
Школьный театр и полутрупы сладкой своей отвратностью Голева к себе на миг притянули. Но тут же, пятясь, он стал отступать к выходу.
– Куда, удавленник? Отвечай: для какой надобности сюды прибыл?
Обритый наголо, похожий на турка, с вислыми усами актер, в камзоле и в камуфляжной куртке поверх него, больно ухватил Голева за плечо.
– Да я тут…
– Говори, зачем явился, ухляк!
– И верно, Савва. Соглядатай, ухляк он! Кем-то, видать, послан…
– Да как вы сме… Я такс… Таксидермер я! – негодуя, приделал к своей профессии дурацкое окончание Голев.
– Говори ясней: кто ты есть? Или кончу тебя здесь, межеумок!
– Ну, это… Чучельник я.
– А по зубам, чучельник, не хо-хо? Ты как с разыскателями Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате разговариваешь?
– «Рогатку» б ему на шею, Савва. Жаль, в расселине осталась.
– Так, говоришь, чучельник?
– Ну.
– А вот мы тебя сейчас выпотрошим и чучелой на позорище выставим!
– Ага, ага. Ну, я просто уделался. Чмошник и чепушило серьезного человека пугать вздумали. Резать я и сам умею. Надо чего – спрашивайте. А пугалки свои – в гузно себе засуньте!..
Тем временем за сценой (ни один зритель на новый перформанс так и не явился, покрутились студенты соседнего ГИТИСа, но и они быстро сгинули) Игнатий допрашивал раненого Жоделета.
– В Сад Зверей – ты за птицей ловцов посылал?
– Не я-я…
– Что еще говорил скворец? Государыню Екатерину бесчестил? Обер-секретаря господина Шешковского поминал?
– Про этих ни слова. Все про Путина кричал. Хвалил его. Видно, сдуру.
– Ты не ответил: откуда в захудалом позорище дорогая птица? Кто приманил?
– Иона у кого-то выиграл, – неожиданно сморозил Митя.
– Брехня, сердцем вижу.
– Да правду я говорю! В нарды он его и выиграл.
– Што за нарды такие?.. А ну покаж.
Зажимая платком рану на бедре, Митя с трудом поднялся.
Занялись нардами. Игнатий учился быстро. Только брови волохатые взлетали и опускались! Жоделет проиграл собственную, не бог весть какую, одежонку. Потом кружевную, просторную, давно вышедшую из моды рубаху отыграл назад. Проиграл, а потом снова отыграл синий, бархатный, в звездах и лунах, занавес «Театра Клоунады».
Игнатий проиграл камзол. Отыгрывать его не стал. Послал вернувшихся из бухгалтерии Савву и Акимку в костюмерную, в сторону, указанную Митей.
– Одежонку мне подберите сегодняшнюю. Да птицу, птицу ищите!
В пустом позорище Савва с Акимкой морщили носы и плевались. Висевшие по стенам изображения ласк, сопряженных с насилием, мытарили душу. Негодованию разыскателей не было конца. Раздражало их теперь все: повадка и разговор московитов, быстрота людских поступков и медлительность мыслей. Непрестанные звонки и песни, летевшие со всех концов Москвы. Полыхающие голубым пламечком говорящие ящики. Бабы, накрашенные так, что кожи не видно. Сюсюкающие и вертящие задами мужики, которых было множество и на улицах, и здесь, в вертепе…
А радовало одно: пока удавалось выдавать себя то за ряженых, то за актеришек погорелого театра. Но был и некий испуг: вдруг незримая стража дознается? Вдруг за самовольное вторжение в призрачное царство забьют в колодки?
В костюмерной было – не продохнуть: хоть топор вешай! Запах людского пота густо мешался с духом каменноугольной смолы. За рядами висящего на распялках тряпья Савва обнаружил мужика в кожаной шкуре…
Вернувшись в ТЛИН десять минут назад и лишь чуть разминувшись на входе с чучельником Голевым, пустой человек и бжезикнутый чмошник Иона так и не успел скинуть кожаный плащ. Не до плаща было. Следовало довершить неотложные дела! Толстодухов, не мешкая, ущипнул за плотный бочок Кирлюндию, затем наклонился и стукнул по клюву скворца, ужинавшего на полу мороженой клюквой.
– Ты понимаешь, что перформанс – это в первую очередь преодоление расстояния между телом и телом? – спросил он, чуть не падая на Кириллу.
– Здесь костюмерная, Иона Игоревич, а не общественный туалет!
– Вот и начнем с тобой костюмы мерить: я – Адамов, ты – Евин!
– Там, там! – Кирилла испуганно мотнула рукой в сторону променуара.
– Или лучше так: я в костюме, ты без костюма. Свежо, свежо будет!
– Да вы прислушайтесь, Иона Игоревич!
Иона нехотя прислушался. До костюмерной долетали одиночные вскрики.
– Опять жалкий хэппенинг вместо настоящего перформанса? Да я тебя за это… – Иона мигом расслабил ремень.
– Там бандиты старинные! Убивают, режут… – пролепетала Кирилла.
Иона вслушался внимательней. Гвалт из променуара долетел ясней. Вдруг, почти рядом с дверями костюмерной, зазвучали жесткие проволочные голоса. Кирилла, забыв про Иону и про скворца, влезла с ногами в продолговатый ящик, где были приготовлены костюмы для ломбарда, накрылась ими с головой. Иона спрятался в ряду занафталиненных, висевших до полу женских платьев.
Вошли двое. Толстодухов, одной рукой ухватившись за белый шелковый шарф, а другой пытаясь застегнуть ремень, отступил глубже.
Но его заметили сразу.
– Вот, шкурами с тобой желаю поменяться, – мечтательно сказал обритый наголо бандит, – шкуру свою давай сюда. Да прозвище скажи, небога…
– Толстодух, – впервые с гадливостью произнес собственную фамилию Иона, послушно скидывая кожаный, роскошный, отнюдь не турецкой выделки, плащ.
– А я – Савва Матвеич. Надо бы и твою собственную шкуру с тебя содрать. Жалобы тут на тебя приносят. Сказывают: довел вертеп до ручки! Но уж больно долго шкуру с тебя снимать. Ишь, шерстью зарос, кабан!
Савва подступил ближе, пошевелил негнущимся пальцем густую волосню, торчавшую из толстодуховского расстегнутого ворота.
Как те волнуемые ветром гибкие и молодые ветви осенних черных лесов, дрогнули волосы Ионы!
Толстодухов вжал голову в плечи. В кармане его трепыхнулся айфон.
Савва влез к Ионе в карман, покрутил блескучую игрушку в руках.
– Гляди, Акимка! Зеркальце для подглядывания, што ль? Так ты вертепщик или тоже соглядатай? – негромко спросил Савва. – Носопырку свою в чужие дела совать вздумал? А она, носопырка твоя, мне, к слову сказать, неприятное на память приводит: у Шешковского такая ж!
И взмахнул висельник выхваченным из кармана ножом.
Широкое лезвие резануло глаза смертельной стылостью. Иона похолодел. Неистраченные в суете жизни, немалые, а верней сказать, большие деньги, мертво лежащие в Сбербанке, враз сбили дыхание, вымотали нутро. Все, что он сделал как перформатор, – представилось мутным, жлобским. А вот мелкие дела – копание огорода в дачном поселке Хрипуново, прибивание скворечников к березам в глиняном, на куски растрескавшемся детстве, – наоборот, показались главнейшими.
Иона ткнулся головой в театральные платья. Они были солеными от актерских всхлипов и насморков, пахли дешевым мылом. Толстодухов даже попенял себе: «Загонял ты актрисок, Иона, как есть загонял…»
– Ассигнации давай, ежели есть. И подпояску кожаную выдергивай.
Иона вынул еврашки, вытащил из брюк ремень.
– А чтоб нюхальник свой в чужие дела не совал, мы его укоротим!
Нож сверкнул во второй раз, кончик Ионина носа, трепыхнув ноздрей, в невыносимой тишине смачно шлепнулся на линолеум. Савва вытер нож о полу куртки, спрятал в карман. Затем ухватил живой, шевелящийся кончик длинными узкогубыми щипцами, вынутыми из-за пазухи, придирчиво его осмотрел, зачем-то понюхал, откинул в сторону.