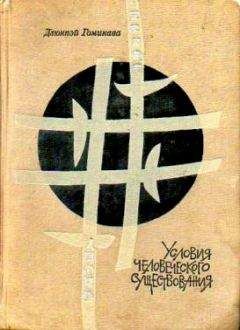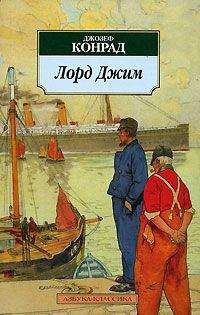Алексей Макушинский - Пароход в Аргентину
Мои родители, рассказывал Pierre Vosco, познакомились в самом конце двадцатых или, может быть, в тридцатом году. Отец вообще нередко наведывался в Париж, по архитектурным ли делам или по делам бывших ливенцев, я не знаю, говорил Петр Александрович, покончив с ростбифом, разглаживая усы. Я только знаю, что ему было тесно и скучно в Риге, хотелось в большой мир, на европейский простор. Он строил вообще немало, строил пакгаузы в Виндаве, тогда уже Вентспилсе, гимназию в Гольдингене, тогда уже Кулдиге, частные дома в Риге и в Туккуме. Я кое-что из этого видел, когда ездил в Латвию в прошлом году, говорил Петр Александрович, разгладив усы, принимаясь разглаживать скатерть. Хорошая солидная работа, функционализм с элементами ар-деко, скажем так. Но это еще не он, не его стиль, не его ритм. Он участвовал даже в строительстве знаменитого рижского рынка, переделанного из цеппелиновых немецких ангаров, но все-таки на вторых ролях, под началом Павла Дрейманиса, своего товарища по университету. В общем его обходили, или так он смотрел на это, так чувствовал. Тот же Дрейманис, всего на пару лет его старше, уже был знаменитостью, главным рижским модернистом… Никакого десерта, только эспрессо, объявил он скуластой кельнерше с таким высокомерно-возмущенным видом, что уже не мольбу о поддержке, но крик о помощи прочитал я в ее глазах… Что же до, собственно, знакомства его родителей, рассказывал П.А.В., то состоялось оно в синематографе где-то на Монпарнасе, куда его дедушка, полковник Саламов, пошел со своей дочерью Ниной, его, Петра Александровича, будущей мамой, смотреть новую фильму Чаплина. Теперь говорят фильм, он знает, но его grands-parents говорили фильма и Чаплина на французский манер называли Шарло. Нет, сказал он, отвечая на приведенную мной цитату, он не помнит этих стихов Ходасевича, он стихов вообще не читает и плохо в них разбирается. Его мама писала, кстати, стихи… А вот то, что они именно так и там познакомились, это он знает точно, ему об этом слишком часто рассказывали… Почему-то они пошли вдвоем в синема, его мама и дедушка. И там встретили его будущего папу, совершенно случайно. Потом дедушка пригласил отца в гости, как бывшего товарища по оружию… Какая именно фильма с Шарло? Вот этого как раз он не знает, никогда их об этом не спрашивал, даже странно, отвечал П.А.В., сам, показалось мне, удивляясь, что не додумался до такого простого вопроса. А теперь ведь спросить уже некого… Его маме, рассказывал он с какой-то хмурой нежностью, было тогда лет двадцать, она была, как он теперь понимает, довольно экзальтированная молодая особа, писала, в самом деле, стихи и мечтала пойти в артистки, к ужасу своих благородно бедствовавших родителей. Она погибла, когда ему было шесть лет, и, конечно, он из нее сделал святую. Святой, как нетрудно догадаться, она не была, но была из тех русских женщин, которые жаждут жертвы и подвига; она их и получила. Собственно, с его отцом, говорил Pierre Vosco, они совсем не подходили друг другу. Отец не был флегматик, но экзальтации никогда в нем не чувствовалось и чужую восторженность переносил он с трудом. Он любил сидеть в кафе и смотреть на прохожих. Или рисовать в своем неизменном блокноте что-нибудь, иногда даже не связанное с архитектурой, а просто и втихомолку людей за соседним столиком. Вот этого бородатого он бы точно нарисовал, говорил П.А.В., окончательно оттаяв, указывая коротким кивком на сидевшего наискось от нас сурового господина с седой и гладкой бородкой. Тот заметил, или почувствовал, наши взгляды, обернулся с возмущенным недоуменьем… В общем, он хотел, кажется, чтобы его оставили в покое, рассказывал П.А.В., а у мамы каждый день должно было происходить что-нибудь, какое-нибудь событие, огромное, важное, чуть ли не мирового значенья. Ей хотелось переживать, а из переживаний делать стихи. О стихах я судить не берусь, наверное, многие барышни писали тогда такие. Она даже печатала их, под своей девичьей фамилией, Нина Саламова. В «Современные записки» ее не брали, но в каких-то более скромных и скоротечных изданьях стихи ее появлялись. В начале тридцатых они ходили, кажется, на все русские литературные собрания, всех знали, и Мережковских, и того же Ходасевича, и Алданова, и даже, кажется, Бунина, не говоря уж о молодых парижских поэтах, с которыми мама дружила. У меня есть письма к ней Поплавского, Юрия Фельзена. Отец мой никогда себя в этой среде своим не чувствовал. А расставаться они начали, похоже, после того, как я появился на свет, рассказывал Pierre Vosco, вновь улыбкой показывая, что понимает невозможность вообразить его завернутым в пеленки младенцем (пеленашкой, написал бы Лесков; словечко, кстати, процитированное А.Н.В. в одной поздней записи…). Может быть, не сразу, говорил бывший пеленашка, ныне Петр Александрович Воскобойников, владелец нормандского замка, может быть, через год, через два. Они не развелись, но мы жили почти всегда, или так мне теперь это помнится, у дедушки и бабушки в Billancourt. А ведь сперва они снимали отдельную квартиру в Париже, возле Gare de l’Est, отец потом жил в ней до отъезда в Аргентину, один. То есть моя мама, получается, просто ушла от отца, взяв меня с собою, и мне никто никогда не мог сказать почему. Отец, когда я потом его спрашивал об этом, через много лет, спустя вечность, как вы изволите выражаться, уже не помнил, или не хотел вспоминать, тех ссор и страданий… Ссоры были, во всяком случае, это он сам помнит точно, продолжал Pierre Vosco, хотя вообще-то почти не помнит ее, свою маму, его увезли на юг, она осталась в Париже, так что он в последний раз видел ее, когда ему было лет пять. Так, говорил он, поглядывая по сторонам, на господина с бородкой, или сквозь него, щурясь, хмурясь, смягчившимся голосом, какие-то совсем смутные воспоминания пробиваются сквозь темноту, немоту. Он помнит ее слезы, да, вот это он помнит. Помнит, как они сидят за столом и шьют, мама и бабушка, бабушка все время шила что-то для денег, сидят и шьют, а он сидит на сундуке в углу, болтает ногами и смотрит на бабушку и на маму, которые то и дело просят его не стучать ногами по сундуку, потом снова забывают о нем, говорят о своем. И он это потому, наверно, запомнил, что день за окном был какой-то необыкновенно яркий. Или день, наоборот, кажется таким ярким, потому что он запомнил его. День сияет изо всех сил за окном, солнце лежит на скатерти. Скатерть в красноватых ромбах, так ему это запомнилось, говорил Pierre Vosco, хмурясь, щурясь по-прежнему, по скатерти разбросаны обрезки, ножницы, нитки. А мама плачет и тычет иголкой в такую, знаете, подушечку, в которую втыкают иголки. И слезы ее прямо сияют на солнце, катятся по щекам и сияют. И ей это самой становится смешно, так что она утирает эти сияющие слезы, и смеется, и продолжает плакать. А бабушка отбирает у нее подушечку своей еще не старой рукой в серебряных русских кольцах, которые никогда не снимала, которые вспыхивают, в свою очередь, и потому он так ясно теперь их видит, на солнце, и протягивает ей тоже серебряный, и тоже сияющий на солнце, наперсток… В «Резистансе» участвовало много русских, как вы, может быть, знаете, сказал Петр Александрович без всякого перехода, само слово резистанс придумал Борис Вильде, назвал так свой подпольный листок. С группой Вильде она не была связана, хотя они встречались на Монпарнасе. Она была связана с анархистами, как потом выяснилось; еще в тридцатые годы была связана с ними; когда началась война в Испании, уговаривала отца ехать туда воевать. Отец отвечал ей, как мне потом рассказывал, что навоевался уже на гражданских войнах. Все-таки она чуть не уехала вместе с какой-то «анархистской группой пятнадцатого округа», не спрашивайте меня, что это. Они жили не в пятнадцатом округе, тогда, кстати, совсем не таком шикарном, каким он сделался после войны, но как-то она к этой группе примкнула, почти, действительно, уехала с ними. Отец в последнюю минуту убедил ее остаться в Париже. В конце концов, у нее ведь был маленький ребенок, говорил Pierre Vosco, невесело, в усы, улыбаясь. От ее родителей эти левые симпатии надо было скрывать, как самую большую, самую страшную тайну… Нет, я не думаю, что они с отцом расстались из-за политики, во всяком случае, не только из-за политики, из-за одной политики не расстаются. Как бы то ни было, в Испанию она не поехала, мужа бросила, жила у родителей, помогала бабушке шить, воспитывала меня, или не воспитывала, уже все равно, писала стихи, а в сорок первом или в сорок втором ушла в «Резистанс», как другие уходят в скит. Анархистская группа была малюсенькая, и ничего они особенного не делали, так, разбрасывали листовки. Анархисты вообще большой роли не сыграли в Сопротивлении. Почему ей взбрело в голову убить именно этого офицера, никто понять не мог. Он даже не был эсэсовец, был просто офицер вермахта, стоял, смешно сказать, на набережной у пресловутых букинистов, перед их черными ящиками, мирно рассматривая книги. Как вы это и теперь делаете, не сомневаюсь, всякий раз, когда приезжаете в Париж. Я точно знаю, говорил П.А.В., где он стоял (на левом берегу, на quai des Grands-Augustins), и какую книгу держал в руках (первое издание Les nourritures terrestres André Gide’a), и как звали этого офицера (капитан Вальтер Шликевиц). Она подошла к нему вплотную и молча, быстро ударила в грудь кинжалом. Кинжалом (poignard) этот кинжал называли потом в газетах, poignard – это мифология, воспоминания о Бруте и Кассии. Это был обыкновенный нож, кухонный, длинный, с деревянною рукояткой. Все это ужасно было глупо, как я теперь понимаю, говорил Pierre Vosco, морщась, хмурясь, крутя ложечкой в керамической чашке с эспрессо, принесенной преодолевшей страх скуластою кельнершей, хотя крутить там ложечкой никакой нужды не было, сахар он, очень гордо, отказался туда насыпать, и, между прочим, немцы, говорил он, после этого расстреляли нескольких ни в чем не повинных заложников, так что это вообще был поступок с моральной точки зрения довольно сомнительный. Все же ее объявили после войны героиней, и он сам в детстве считал ее героиней, прямо какой-то Jeanne d‘Arc или Charlotte Cordé… А через много лет, уже в шестидесятые годы, рассказывал Pierre Vosco, его разыскала дочь этого офицера, Беттина Шликевиц, так ее звали, и они встретились в кафе, и просидели часа два, глядя друг на друга. Она была студентка, очень левая, как все студенты в то время. У него сохранилась фотография, как они сидят за столиком, снимала ее приятельница, она пришла с приятельницей, видно, боялась одна идти на такое свидание. Приятельница потом ушла, а они остались сидеть. О своем отце рассказывала она, с чужих слов, что тот был убежденный наци, яростный антисемит, но, кажется, ни в чем таком кромешном замешан все-таки не был. Был при этом образованный человек, знал древние языки, оставил большую библиотеку в ненужное ей наследство. Фотографию он мне может прислать, если уж меня так сильно это интересует, говорил Pierre Vosco, допивая свой горький эспрессо; совсем крошечной казалась чашечка в его широких и плоских пальцах. Он может мне прислать разные фотографии по электронной почте, если я хочу, говорил Pierre Vosco, он теперь как раз занимается… как вы называете это?.. дигитализацией архива. Смешное слово, но пусть будет так. Этот Hauptmann Schlickewitz умер на другой день в больнице. А его, Петра Александровича, невообразимая мама, Нина Петровна Саламова, даже не пыталась бежать или скрыться в толпе, так что ее тут же схватили, продержали полгода в гестапо, судили военным судом и расстреляли, в конце концов, в той крепости Mont Valérien, где потом расстреляли Бориса Вильде с его группой и где они вообще расстреливали участников «Резистанса». Ее пытали перед смертью, конечно. Держалась она героически, никого не выдала, ни одного имени не назвала. Он всю жизнь старался, и теперь старается, не думать об этом. Если думать об этом, то как тогда жить? Если всерьез и в самом деле об этом задуматься, то как тогда… все равно. В Германии он до сих пор не бывал и вряд ли снова приедет. Хотя Мюнхен – красавец, говорил Pierre Vosco – вот не помню, в заключение этого, или в начале следующего разговора и дня, в Олимпийском парке, куда, как архитектор и сын архитектора, он непременно хотел съездить, куда я отвез его на машине, Мюнхен – красавец, этого он отрицать не может, говорил Pierre Vosco, поднимаясь вместе со мною на ярко-зеленый, еще не тронутый осенью холм в Олимпийском парке, тот холм, в который, готовясь к Олимпиаде 1972 года, превратили знаменитую гору мусора, оставшуюся после войны, и откуда Мюнхен виден весь, так же ясно, со всеми его куполами, как, особенно если дует фён, раскрывающий пространство, очищающий зрение, видны далекие, снежные, всегда и всякий раз неправдоподобные Альпы.

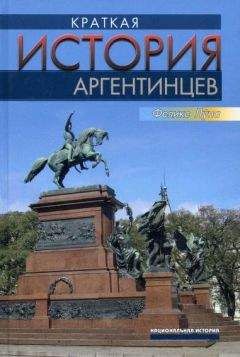
![Нильс Хаген - Охота на викинга [роман]](/uploads/posts/books/126886/126886.jpg)