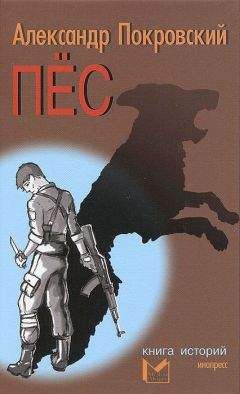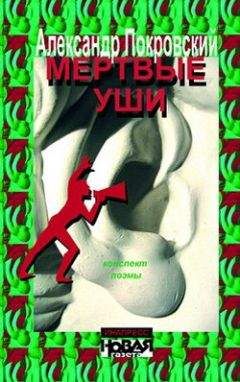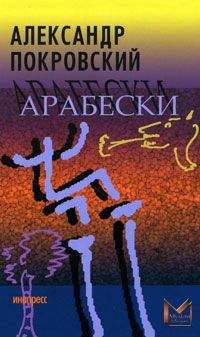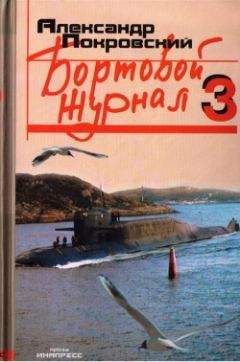Александр Покровский - Пропадино. История одного путешествия
От всего сказанного я только рот открыл – бред какой-то. В этот миг и появилась ниоткуда радостная Акулина Тифоновна, воздух рядом с ней вроде сдвинулся.
– Туточки я! – не могла она не воскликнуть.
– Чем порадуете, Акулина моя Тифоновна? Все ли ладненько у гипербор и ев? Лабиринт не растолкали?
– Не растолкали. И воробушкам есть что клевать.
– А что ворон-то?
– Ворон глаз бережет, да и нам советует.
– Ворон вороненку прошлое покажет, ворон вороненку обо всем расскажет. То ли Грушино нам привиделось?
– И то и не то.
– Как сие выпестовывается?
– Чтоб в то Грушино попасть, надо временем совладать. Иное оно там, стоялое.
– Как же это иное? – вмешался я в разговор. Григорий Гаврилович к этому моменту совсем онемел, потому что уже минут десять как являл собой скалу, о которую в тумане при перелете на юг, на зимовку, разбиваются яйца.
Последняя фраза представилась мне не совсем гладкой, но я взглянул на Григория Гавриловича и подумал оставить ее без исправления.
– Так что же это? – вопросил я снова.
– А то! – усмехнулась Сказана Толковна. – В ногу со временем идут у нас только три города – Москва, Петербург и Пропадино. Они и на картах имеются. А вот во всех остальных времечко-то свое, собственное, особливое. В него еще попасть надо.
– Время-то, – оторопел я в который раз за этот день, – всегда одно и то же!
– Не скажите! – игуменья взглянула с умом. – Вам проводник сказал что? «Ваша станция». Вы вышли, а на часах-то – другое время. И место не то. Не к месту вы, не ко времени.
– И что же теперь?
– Теперь мы отпустим Акулину Тифоновну восвояси, а сами позовем Агату Торфовну из отдела фольклора и поверий всяческих.
Акулина Тифоновна, взвизгнув, пропала, а на ее месте из темноты возникла другая старушка – вся в черном с головы до ног. Строгости ее лика могла позавидовать даже икона Николая Угодника.
Она молча поклонилась игуменье в пояс.
– Агата Торфовна, – вопросила наставница, – вы об наших тут бдениях ежель как наслышаны?
– Мы наслышаны, – поджав губы, ответствовала Агата Торфовна.
– Чем понежите?
Вдруг, ни с того ни с сего, в руках Агаты Торфовны возник посох, она ударила им о землю и запела глухим голосом, пританцовывая да поматываясь: «Что мне темень, если вволю, вволю мнится, что обрушит все мои темницы Грушино мурчанье, Божий гла-ааа-с!»
Она оборвала пение так же внезапно, как и начала, посох из ее рук исчез, а вот пупырышки на моей коже – нет. Пупырышки только множились. И шерсть по всему телу встала дыбом.
Сказана Толковна выслушала свою наперсницу совершенно спокойно.
– Так-то ли? Как вам глянется? – спросила она ее на том самом птичьем языке, который я лично воспринимал как средневековую песню.
– А как глянется, так и торкнется. И как кажется, так и глянется. От тоски-то, печали.
– Чем печалится, лучше дело деловать.
– Как на вечер-то солнце глянется, так и деловать будем.
– Что же Грушино?
– А что Грушино, то порушено. С нашим-то несовпаденьем. Разлад. Можно с воза спихнуть, да волками лес полонится.
– Что же молодцу весьма ласковому?
– Береженье надобно. Смерть в сенях давно топчется.
– Не вспоминай лиха, будет тихо.
– Без лиха не будет тихо.
– Так как же наше Грушино… – перебил я их песни восточных славян.
– Тихо! – вскрикнула Сказана Толковна. – Слово перебивать – судьбы не менять! До конца говорено быть должено.
И я притих, а от Григория Гавриловича и вовсе осталось только редкое мерцание зрачков.
– Грушино было скушано – продолжила Сказана Толковна. Потом она знаком отпустила Агату Торфовну – та немедленно пропала во тьме.
– Надо бы отдел костюма растревожить, – сказала она, задумавшись.
– Костюма? – не удержался я.
– Его самого. Костюм от города до города разнится. Костюм душу сохраняет там, где все давно потеряно. Где у нас начальник отдела костюма Ядвига-швея?
– Здесечки мы! – перед Сказаной Толковной образовалась еще одна бабулечка – вся в каких-то висюльках. У нее был вид потревоженной лисички-сестрички, и быстра она была да порывиста.
– А что, Ядвигушка Бобровна, тот костюм, что мы зрели давеча, не из Грушина ли? – вопросила ее игуменья.
– Знать, с бубенчиками, чтоб чужих примечать?
– Со бубенчиками.
– То из Гнусино. А про Грушино мы и слыхом не слыхивали.
– Так уж и слыхом?
– Нету, нетушки. И помину нет, и обмолву нет. Ни следов и ни звания.
– Мы же видели их тут в один пригляд?
– Тот пригляд, чай, не простенький. Заговоренный. А по заговору тому обещаньице только гляд, не тревоженье.
– Верно. Заговоренный был пригляд.
– Так и наше вам со почтеньицем. Поглядели и ушли с чревом памяти не порушенным да не выскобленным. Молодец-то к нам как не засланный, не с ревизией ли? Больно носятся с торбой писаной. Ежели с пирогами, так уж не с рогами?
Весь этот разговор протекал, точно речка журчала. Если б мне кто сказал, что я услышу такое, никогда бы не поверил. Говорили они так, будто хотели, чтоб услышавшие ничего не поняли. Быстро речь текла. Что ни слово, то и ответ готовый.
– Ой, глядите, Сказана Толковна, – проговорила еще старушка-лисичка, – нюха нюхает да лазутничает, так мне глядится. Как не вынюхал бы в один-то нюх. Может, с виду только ротозейничает. Позовите гаданье-то, не побрезгуйте.
С тем она и пропала – будто и не было вовсе.
– На ваше Грушино, – сказала Сказана Толковна, – осталось одно только гаданье. Тревожить ли гадание?
– Ну, – я обернулся за поддержкой к Григорию Гавриловичу, тот важно кивнул, закрыв при этом глаза, – давайте, – согласился я, – пусть будет и гадание.
– А как скажете! А явись-ка перед нами с разутыми очами краса Помина Поминовна.
Мгновенно нарисовалась еще одна бабушка. Одета она была в одну большую красную шаль с клобуком, а на шали той – всякие украшеньица: тряпочки, узелки, колокольчики.
– Помина Поминовна, – обратилась к ней игуменья, – не заглянете ли нам в Книгу судеб? То ли видится, что представилось? Ой ли ойкнется иль отступится? Как там Марс?
– Марс ко льву в гости просится, Юпитер овцой томится, Плутон – козерогом.
– Можно ли по лицу погадать, по руке или карты раскинутся?
– Можно и по лицу, по руке, можно и карты раскинуть. В – ком нуждание?
После этого Сказана Толковна перевела взгляд ведуньи на меня. Та глянула мельком – будто глазами в глаза вцепилась. Я ощутил внутри, как екнула поджелудочная железа. Екнула и будто слезу пустила. И слеза та опустилась низехонько, призывая к себе мое внимание, а как добилась его, так и вовсе сгинула. Внизу живота стало легко и прохладно.
– Осмотрю все: брови, уши, зубы, нос и губы, – нараспев произнесла Помина Поминовна таким голосом, что дрожание по коже. – Его нос семерым рос, одному достался. Упадет с печи, не найдя свечи. Нос-то не для нюха, да и с виду рюха. Что нюхает, то не ведает. Дедушка не ведает, где внучок обедает. Нос с умом наперегонки бежали, да ум ножку подвернул. Тот нос нам не помеха. Лоб, что лопата, ума не богато. При Фоме пропоем, он и не кинется, а что кинется, то и сгинется. Похожа свинья на быка, только шерсть не така. Пусть идет вперед, где веник живет. Веник молодцем взбрыкнется, вот тогда и поглядим. А пока печаль гонится, сердце хоронится. В радости кудри вьются, а в печали секутся.
Я во всей этой белиберде ничего не понимал, но коже так холодно было, будто кто-то меня в темноте ощупывал. Сказана Толковна слушала очень внимательно. Кажется, она понимала, о чем идет речь.
– …А явись-ка перед нами с разутыми очами краса Помина Поминовна. Мгновенно нарисовалась еще одна бабушка. Одета она была в одну большую красную шаль с клобуком, а на шали той – всякие украшеньица: тряпочки, узелки, колокольчики.
– Что же уши? – напомнила она.
– Уши не слушат, а что слышат, то мимо. На сказанное свое ухо сыщется. У нашего молодца уши часть лица. Не более.
– Губы?
– Губы пропадут – зубам холодно. Губы блином обвисли. Может, карты кинуть?
– Так кидавай, в чем задержка?
Сейчас же раскинулись и карты.
– Дорога, дорога, – бормотала бабушка, – не попал к себе до срока, вот срок-то и схлопнулся.
– Как вернуть?
– Время? Время есть всегда. Туману много, но так и должно. Пустите молодца. Не опасен.
– Полагаешь?
– Ведаю.
В ту же секунду Помина Поминовна попала пропадом, а Сказана Толковна, на которой это пропадание не сказалось никоим образом, устало взглянула на нас.
– Вам в историю надобно, – сказала она, подумав.
– В какую историю? – не понял я.
– В департамент истории, потому что все истории в конце концов оседают там.
– Так нет же у нас никакой истории. В Грушино вот только все никак не попасть.
– Вот там и расскажете о своем Грушине. То-то сердце потешите.
– Сердце? – успел я вымолвить, и в то же мгновение на нас налетели старушки – тени, тени, руки в темноте – и выпихнули за дверь.