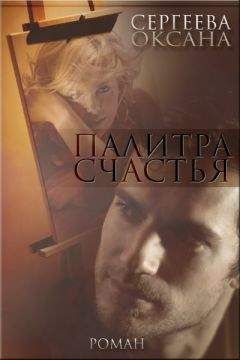Захар Прилепин - Обитель
– Да, Галя! – ответил Артём, и её имя тоже показалось железным.
Он совсем не боялся.
* * *Нашли удобный заход к пологому берегу.
Артём спрыгнул в воду метра за три от берега: думал, будет помельче, но оказалось почти по пояс, сапоги к тому же невозможно скользили – пока, чертыхаясь, взял эти три метра и потом за верёвку вытянул катер, устал так, словно шесть часов баланы ворочал, – весь дрожал и подташнивало.
Хотя у него и силы были не те после Секирки.
Еле отдышался и весь изошёлся длинной слюной.
Ноги промокли, всё хлюпало и причавкивало под пятками.
Когда заглушили мотор, стало непривычно тихо и не по себе. Словно рокотанье двигателя отгоняло злых духов, а теперь они могли слететься.
Похоже, на острове никого не было.
Артёма знобило, он хотел как можно скорей улечься и как можно дольше спать.
Но сначала, чтоб втащить лодку на берег, пришлось её разгружать. Лазил туда-сюда, словно в дурном сне. Содрал ноготь. Держал палец во рту, как младенец. Из-под ногтя подтекала солёная жидкость.
Галя ушла куда-то по своим делам. Вернулась, когда он в одиночку втянул лодку почти до середины.
– Сползает, – сказала Галя строго.
Если бы Артём ушёл на две минуты по нужде – что давно собирался сделать – лодка бы уползла в море. И они б умерли на острове. Или дожидались бы здесь чекистов, как зайцы, угодившие в силки. Повизгивали бы только от ужаса…
…Пока Галя держала верёвку внатяг, не давая лодке сползти, Артём, почти неживой, ворочал валуны, загоняя их под киль.
“Сдохну… – повторял иногда. – Сдохну…”
Галя выбрала место для сна.
Примус не разгорался.
Артём, морщась от боли – ноготь, чёртов ноготь, – прочистил примус конским волосом, разжёг.
Пошли тёплые волны и запах, – но самого тепла было мало.
– Костёр теперь, – сказала Галя. – Нужен костёр.
Сырой, с залипающими глазами, в хлюпающих сапогах, Артём пошёл нарубить дров – нашёл два деревца, местные берёзки, они стелилась к земле и топору поддавались еле-еле…
Или руки уже не слушались.
Когда Артём вернулся, с ветреной стороны было вывешено одеяло, надетое на две лопаты, и вырыта ямка – чтоб удобнее было разжечь огонь.
Артём, кое-как управляясь с топором, нарубил щепья.
…Появился огонь – это было так радостно, как будто затеплилось само спасение, и его можно было рассмотреть, прикоснуться к нему быстрой рукой.
Они присели у костра, не столько греясь, сколько защищая огонь от ветра.
Артём снял сапоги, один носок сполз – пришлось лезть за ним рукой в сапог – вытащил и не носок уже, а кашу из шерсти и навоза, такой кашей можно, к примеру, маленького чертёнка покормить с ложечки. Сжал в дрожащей от усталости руке, потекло по пальцам густое и склизкое.
Долго и неумело сушился у огня.
Галя наблюдала всё это с иронией – способность к которой, к слову сказать, всегда признак женского ума: Артём откуда-то знал об этом раньше.
Через полчаса Артём застал себя с банкой масла в одной руке и банкой сахара в другой.
Банки эти поочерёдно отдавал Гале, а потом они снова менялись. Ели всё это ложкой, которая стала вся сахарная и масляная. Объедение необычайное – только ложка казалась тяжёлой, как свинцовый половник.
Запивали чаем, Артём, спалив всю пасть, выпил уже три кружки. Во рту болтались ошмётки обгоревшей кожи. Без жалости влезал пальцами в рот и обрывал.
Телу всё равно было прохладно, и время от времени становилось ещё холоднее – как будто чай жёг только глотку и то место посредине груди, где он тёк, остывая уже внизу грудной клетки.
Галя кое-как поставила недопитую кружку чая. Глаза у неё слипались.
– Не спала, – призналась ему. – Нервничала.
– Кто-нибудь убегал… из лагеря? – спросил Артём, прожевав и вытерев губы рукавом.
“Кажется, и правда пока не сдохну…” – признался себе.
– А вот только что, летом… один… – сказала Галя. – Рассчитал, куда идут морские течения, привязал себя к бревну и отправился на нём в путь. До материка.
– И что?
– Выбросило на берег, – сказала Галя не то чтоб сопереживая, но с некоторым сочувствием. – Все кости переломаны, череп разбит так – как будто… молотом били. О скалы, наверное… не успел отвязаться. Или нахлебался до этого… Не знаю.
Осеннее дерево чадило.
Артёму хотелось укрепиться в их удаче, и он снова начал расспрашивать Галю о том, что может случиться с ними.
– Может мотор сломаться, – сказала Галя. – Но у нас есть мачта и парус, и мы… попробуем так дойти тогда. Я немного умею, и Фёдор показывал – у него брат – моряк… И местные монахи учили… Тюлений староста – он тоже учил… Ещё может начаться шторм. В таком случае мы утонем – и нас опять же не найдут, – как умела, засмеялась она, – …хотя через день-два мы, наверное, пойдём неподалёку от западного берега, чтоб в случае чего можно было попытаться прибиться…
Артёму очень сильно захотелось поцеловать её в губы, обнять: как сестру.
Она не столько видела, сколько чувствовала его по-детски удивлённое и неожиданно радостное состояние – и заразилась им, и снова чему-то засмеялась.
На радостях Артём сходил поискать чего-нибудь на растопку, бродил в полной темноте, упал несколько раз.
“Хоть бы одна сосна”, – думал Артём, представляя, как разгорятся ветки. Но откуда сосна на этом пятачке посреди моря, что ей тут делать, о чём думать.
Набрёл на ещё один куцый куст, порубил-поломал его, в темноте даже не понял, что это такое.
Торопливо возвращался обратно на еле живой, трепещущий огонёк, как будто там была защита и оберег.
Ноги не слушались.
Буруны перекатывались через отмель; задувало в лицо; и если лицо прятать – мстительно задувало снизу.
Галя настелила на землю брезент, а на него одеяло, сверху укрылась дождевиком, Артёму оставила другой.
Она лежала головой к самому огню. На голову надела будённовку, завязав под подбородком, – стала такая смешная. Смотрела на него плывущим, слипающимся взглядом.
– “В синем и далеком океане… где-то возле огненной земли…” – пропела Галя. – Ложись скорей.
У Артёма едва слышно заныло под ложечкой.
“Может быть, я правда её люблю? – подумал он, очень бережно взвешивая свой вопрос в голове, чтоб не спугнуть его своим же, из прошлой жизни, зубоскальством. – Люблю? – ещё раз повторил он, беззвучно произнеся это слово, чтоб почувствовать его на губах. – Или как в моём случае называется то чувство, которое у людей зовётся «любовью»?..”
Он досы́пал веток к огоньку.
– А мы куда бежим? – спросил он, заползая под свой дождевик и чувствуя, что речь ему едва даётся.
– А я ещё не решила, – тихо сказала Галя, тоже еле добредая к нему сквозь свою полудрёму и усталость, но тон всё равно был такой, словно она выбирала, в синематограф им отправиться завтра или в театр. – Все, кто бежит, – бегут в Кемь. И оттуда стараются уйти в Финляндию. Нас тоже будут там искать, наверное… Но мы плывём в другую сторону. Может быть, дойдём прямо до Финляндии морем… Это двести вёрст. Может быть, сменим курс и высадимся на берегу под Архангельском… Или где-нибудь в тех землях. Может быть, поплывём до самых Норвежских вод… не знаю… Я не понимаю, насколько тут хватит топлива. У нас ещё три бака… Я забрала у техника, который… разобрал наш самолёт на сто железок… Но можно, говорю… под парусом… давай спать…
Неровным, но таким родным движением она подняла свой дождевик: иди ко мне, Тём.
Он из последних сил засмеялся.
– Что такое? – спросила она, не открывая глаза и путаясь в слогах.
– Эта будённовка твоя… Я не могу. Как будто с красноармейцем из надзорной роты лёг поспать…
Галя сделала движение, чтоб отстраниться, но больше для виду, из строгости.
Артём обнял её и не пустил.
Они тут же уснули.
* * *Спал трудно – будто сам сон стал работой. Непрестанно, как зуб, ныла какая-та часть сознания: надо вставать, надо плыть дальше, надо вставать, за нами уже погоня, нас видно с маяка на Секирке, нас заметили и…
В страшном и сумбурном видении красноармейцы подплывали к их островку на лошадях – чтоб их не было слышно. Лошади фыркали и поднимали вверх головы с красными, безумными глазами, красноармейцы скалились…
Скорей разбудить Галю, отползти – они могли их не заметить. Но лодка! Куда деть лодку! Её можно очень быстро утопить… Да!.. Он побежал – на длинных, шатких ногах, словно нарисованных совсем маленьким ребёнком, держащим карандаш в кулаке, – к моторке, сталкивая её в море, – и лодка сразу же ушла под воду… “Что ты делаешь?” – закричала Галя вне себя от ужаса.
Артём проснулся с тяжёлой головной болью: как будто промеж бровей, на лоб, приклеили что-то чуждое, клейкое, занудное – и хотелось сорвать, содрать это.
В голове плотно стоял шум моря.
Галя уже не спала – лежала, похоже, не в силах выбраться из-под дождевика. Лицо её было хмурым, подурневшим.
– Сколько времени, как ты думаешь? – спросил он; слюны во рту не было.