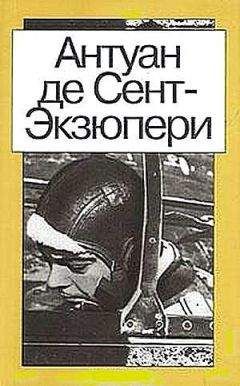Анатолий Михайлов - У нас в саду жулики (сборник)
– А это у тебя, – спрашиваю, – что? – и киваю на его сумку.
– Затарился, – объясняет, – для семьи.
А там у него несколько тазиков: сначала большой, потом поменьше, потом еще поменьше и потом еще…
Как будто матрешки.
Ну, надо же, какой хозяйственный. Скоро в Россию. А я, наоборот, недавно приехал.
– Ну, как, – спрашивает, – пишешь?
– Да как тебе, – улыбаюсь, – сказать… Все, – говорю, – не хватает времени.
Нахмурился.
– Надо, – говорит, – все успевать.
Вот он, например, все успевает. А когда надоест рисовать, то он сочиняет музыку… вальс…
Я засмеялся: «Вальс?! Ты… сочиняешь вальс…» – и в изумлении даже почесал затылок.
– Не вальс… – я его не совсем правильно понял, – вальс уже есть… просто он под вальс… подгоняет слова… его попросили…
Немного подумал и добавил:
– За сто долларов…
– Тебя… попросили… за сто долларов… – и снова так радостно изумляюсь.
Ну, вот, уже и рассердился. Как бы не переборщить.
– Ты, – говорит, – как маленький… Ну, вот, смотри… – и кивает на обложку Чейза. А у меня этих Чейзов – чуть ли не полстола. И у каждого свой порядковый номер. Коле недавно прислали двадцать девятый.
– Вот, – объясняет, – есть проза… ну, что там бывает еще…
– Еще, – подсказываю, – поэзия.
Так вот всегда. Только он сосредоточится, и я его обязательно перебью.
– Ты когда-нибудь, – морщится, – научишься слушать?.. Жанры, – говорит, – бывают… разные… ты только не перебивай…
И замолчал.
Но ведь я же ему хочу помочь.
– Ну, да, – улыбаюсь, – ты, конечно, прав… Еще, – говорю, – драматургия.
– Да нет…
Теперь уже разозлился не на шутку. Кажется, перебарщиваю.
– Ты, – говорит, – все что-то подозреваешь… Ну, как ребенок…
– Вообще-то я, – говорю, – сам тоже менестрель. Но я сначала беру слова, а потом делаю вальс. А ты наоборот.
Все равно что Евтушенко.
Как-то включил телевизор и вижу. Сидит Андрей Дементьев и кому-то рассказывает. По-моему, Шаинскому. А у того уже грабли на клавишах. А может, наоборот, рассказывает Шаинский.
Приходят они с Женей к Колмановскому. А у Колмановского вальс. И Евтуху этот вальс приглянулся.
Евтух Колмановскому и говорит:
– Ну, че… может, заделаем…
Там, правда, какой-то текст. И взяли его да к едрене-фене и выкинули. И получилось прямо как и у Виталика. ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
– Ну, а какая, – спрашиваю, – мелодия? Ну, что за вальс?.. Мне, – говорю, – просто интересно. Ну, спой…
Не хочет. Не хочет Виталик петь.
– Ты, – говорит, – что, дурак?
– Ну, ладно, – соглашаюсь, – музыку сразу и не вспомнишь. А ноты, – спрашиваю, – есть?
– Ну, да… конечно, есть… они, – говорит, – сейчас не у меня… это, – вспоминает, – было уже месяц назад…
– Но уж слова-то, – говорю, – наверно, помнишь… слова-то, – улыбаюсь, – твои… ну, хотя бы один абзац…
– Конечно, – говорит, – мои… а чьи же еще…
И опять почему-то надулся. А может, просто не знает, что такое абзац. Такое иногда бывает.
– Я тебе, – обещает, – их как-нибудь принесу. Надо, – говорит, – над ними еще поработать.
Последнее предупреждение
– …Конечно, не каждый босяк может себе позволить иметь такую бороду, но, как старший по возрасту, он бы мне порекомендовал держать себя в рамках приличия. А как еврей у еврея, он интересуется меня спросить, какое я имею право «видавать себя за татагина»…
И вдруг до меня начинает доходить, что «татагин» – это, значит, я. Как-то задумался и все никак не могу врубиться.
Я поворачиваю голову и на подрагивающей складке щеки успеваю отметить рассыпанные по дряблой коже веснушки. И мне сразу же представляется дедушка.
Когда мы были в эвакуации, то бабушка потом про меня рассказывала. Что не успеешь еще дедушку ущипнуть, только дотронешься – и уже на щеке синяк.
– Вы, – улыбаюсь, – меня с кем-то перепутали.
– Я?!. Пегепу-у-тал?!. – и в каком-то азартном негодовании изображает немую сцену. Как будто я его только что обвесил. И сейчас он всю мою морковь высыпет мне обратно в миску.
Да я еще играл в свои «цацки», а он вот на этом животе (тычет себе в пряжку ремня) «пгополз» по снегу от Южного Буга до Вислы. И был «четыге газа ганен».
И теперь успеваю отметить отколотую эмаль на ордене Красной Звезды и выцветшую ленту на уже потускневшей медали «За отвагу».
– И кто говогит пгошел, плюньте тому в глаза… кто воевал, никогда не скажет пгошел…
А мне бы он все-таки посоветовал «не стгоить из себя дугачка».
Оказывается, у него в России свои люди, и они ему все рассказали. И теперь им здесь на Брайтоне все обо мне известно. Что в Ленинграде я выдаю себя за татарина и призываю бить жидов.
– А пгиезжаешь обгатно – и снова евгей?!
И, припечатав меня к позорному столбу, неожиданно успокаивается.
– У меня, – уточняю, – еврей только папа.
– Папа… у него евгей папа…
И в не совсем понятном восторге срывает у себя с носа очки.
– А ты знаешь… – и, как-то опять неожиданно, теперь почему-то подмигивает. – А ты знаешь, кто такой Жигиновский?..
А может, просто дергается глаз. Как и у папы. После контузии под Барселоной. Наденешь без спроса его тапочки – и тоже так трясет головой.
– Да, – говорю, – вообще-то слышал.
– Он слышал… и что ты мог слышать о Жигиновском?.. Он слышал о Жигиновском…
– Слышал, – смеюсь, – что у него папа юрист.
– Папа югист… – и почему-то опять насупился. – Сам ты, – говорит, – папа югист…
И, вытащив из кармана платок, тщательно протирает каждое стекло.
Да если я хочу знать, то у него на Западной Украине тоже свои люди. И все об этом сыне юриста раскопали. И он даже готов со мной поспорить, что я ему сейчас просто не поверю. А мой хваленый Жириновский на самом деле – прямой потомок Богдана Хмельницкого.
– Чего ж тут, – улыбаюсь, – удивительного. Этого, – говорю, – и следовало ожидать.
И опять почему-то нахмурился.
– Такой же, – говорит, – как и ты. – И снова нацеливает на меня дула очков.
Обманывает и русских, и евреев. И хочет утопить русский народ в еврейской крови. А Кашпировский ему собирает на водку.
И все у них по плану: сначала водка подешевеет – и русский народ окончательно сопьется. А потом – наоборот – подорожает – и начнется гражданская война. И все будущие Ойстрахи пойдут на пирожки.
И «этого афегиста» сюда к ним недавно «забгасывали».
И вот ведь какая падла: «загипнотизигует бедных стагичков» – и «наши дугаки» несут ему «свою последнюю копейку».
Они здесь даже собрали совет старейшин и написали Никите Сергеевичу коллективное письмо.
– Жалко, – говорит, – что нету Сталина. Он бы, – вздыхает, – не допустил.
Не допустил бы такого «безобгазия».
Потом вдруг опять как-то неожиданно помрачнел и опять давай мне грозить указательным пальцем. И все никак не может слезть со своего «татагина».
– Ты, – говорит, – смотги… Делаем тебе последнее пгедупгеждение!
Кальмары по-московски
Осваивая очередной ресторан, я свои книжки дарю, как правило, только хозяину. Или, в отсутствие хозяина, администраторам. Бывает, и вышибале, если, конечно, такой имеется. А тут решил тряхнуть мошной и надписал их сразу всем. Сначала хозяину, а потом и ребятам-официантам.
И хозяин меня сразу же зауважал. И даже еще сильнее, чем Буба. И когда, завершая маршрут, я отмечаюсь в своей последней пищеточке, то всегда со мной здоровается за руку.
И что мне больше всего у них нравится – никто здесь не поет. Не отвлекает от моей работы.
Иной раз возвращаешься – и сплошные «мертвые души».
У Бубы – американцы. У Еси-Боксера – свадьба. Ну, а у Сени с Юрой на буднях всегда полный штиль.
А здесь даже и американцы не страшны: ребята им про меня что-нибудь вякнут – глядишь, и уже надписываю – Биллу или какому-нибудь Джону. И чтобы обязательно по-русски.
– Ол райт, – улыбаются, – рашен… Горбачев!
А если наши евреи, бывает иногда, что приглашают меня за стол, и я вместе с ними тоже гуляю – как пошутил когда-то мой друг Валя Лукьянов – «на всю Ивановскую». Так что я у них теперь вроде «сына полка». И вот в такой удивительный кабак меня Димон и затащил.
Наверно, просто вышел отлить. Еще и несколько раз пернул. И, как всегда под субботу, все уже вдрабадан.
Обычно чуть ли не до утра все горлопанят да шарахаются. А тут как-то неожиданно рано затихли. Жара. И всех, кого где разморило, там и зафиксировало. Кого на лавочке, а кого в палисаднике под столом.
А я после Сени с Юрой выкупался в океане. Поставишь ногу в песок – и как будто кто-то щекочет. Оказывается, крабы. Срубил четыре банана и уже собрался «давить клопа». И вдруг Димон. Выползает из своего подвала.
– Я, – говорит, – хочу тебя, Толян, угостить кальмарами. И салатом «Оливье».
– Да я, – улыбаюсь, – Дима, вообще-то уже поужинал… ты знаешь… сегодня не выспался…
И демонстративно зеваю.
Но Димона голыми руками не возьмешь.