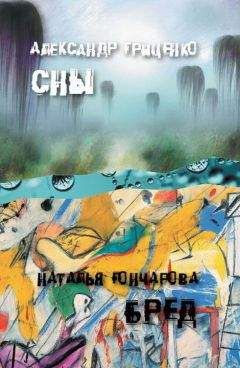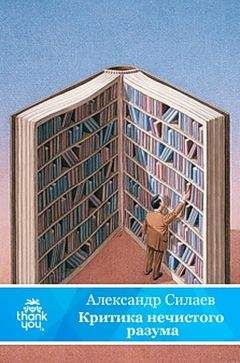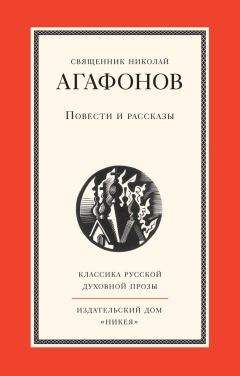Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
Ладно бы, сказали, что его произведение не удалось, что это плод досужего ума и слуха, что оно – просто пустая, бездарная меломания. Так нет же. Взахлеб и, кажется, искренне хвалили. Но на самом деле сочинение Бориса, как оказалось, никому не нужно. Похоже, ни в настоящем, ни в будущем. Сам сатана смеялся ему в лицо с какой-то бешеной, дьявольской карусели.
Борис потоптался на одном месте, ибо его посетила мысль о том, что, может быть, стоит зайти в церковь, помолиться, послушать вещее многоголосье хора и тем утешиться, развеять печаль. Но мысль была далекой и слабой, как ранняя звезда.
Продавщицы значительно переглянулись, оценив респектабельный вид знакомого музыканта, его голландское, черное пальто, белую рубашку, галстук, кейс, и одна услужливо подалась навстречу Борис, стараясь не смотреть на девушек, приобрел бутылку коньяка и спешно вышел на улицу Однако идти трезвым на суд Тамары… ну пусть не суд, но все же укор, – ему не хотелось. Последовало бы, как он подумал, немое обвинение в бесталанности. Это уж наверняка. Кто-то неведомый подтолкнул его в спину мимо своего подъезда. Войти в дом к любимому, близкому человеку с печатью неудачника, к человеку, ради которого, честно говоря, Борис писал то, что написал, он сейчас, после всех огорчительных встреч и свиданий, был не в силах.
Борис спустился вниз, к Крылатским холмам, к святому ручью, легким, переливчатым голосом своим, напоминавшим дальний, деревенский, и присел на пустынную лавочку. Неподалеку, у источника, толпился в очереди народ, наполнявший бутылки, фляги и канистры драгоценной влаги.
Борис отвернулся от публики. Ему сейчас нужно было побыть только одному. Он сел спиной к очереди, лицом к Храму Пресвятой Девы Марии, который стоял, сверкая крестами на вершине холма, прямо напротив.
– Чем же я прогневил тебя, Господи?! – спросил Борис, глядя на голубые церковные стены. – И ты, Дева Мария, почему не заступилась, не помогла, не защитила то, что исходило от Ваших пределов? Или правду говорят, что наступил век Антихриста?
Но ответа он не услышал. Тихо и прощально благостно сияло солнце, ярко, до боли в глазах, горели в синеве неба церковные кресты. Маленький человечек, ловко подпрыгивая, спускался по тропинке с вершины холма.
Борис ощутил вдруг абсолютную пустоту в голове, в сердце, во всем теле. Пустоту и полное безразличие ко всему. Он откупорил бутылку и отхлебнул из нее добрый глоток. По телу покатилась теплая волна. Горячий туман стал обволакивать и слух, и мысли, и зрение. Церковь с сухим шелестом чуть накренилась вбок, накренились кресты, и Борис неожиданно увидел, что мимо золотых крестиков тихо проносится маленький, серебряный, за которым тянется тонкий белый шлейф, обшитый по краям тонкой кружевной бахромой. Он так обрадовался самолету, словно вернулся в детство, когда, случалось, лежал на горячей крыше и с восхищением наблюдал летевшую под облаками крохотную машину На какие-то минуты Борис забыл обо всех болях и обидах. Он представил себе летчика у штурвала, и ему захотелось туда, в кабину пилота, чтобы взглянуть на всю плоскость мира сверху. Увидеть мелкие, рассыпанные по земле города, угадать их голоса и звуки.
Борис вспомнил, как, возвращаясь после успешных гастролей по Соединенным Штатам, они с Тамарой, молодые, красивые, удачливые, перелетали через океан. Сияло такое же яркое, беспечное солнце, и то ли два неба было в обозримом пространстве, то ли два океана – внизу и вверху. Казалось, жизнь не имеет конца, и звучит одной долгой прекрасной мелодией. В согретой памяти всплыла красочная, будто никогда не засыпающая Бразилия с ее чарующе веселыми карнавалами, не знающими ни времени, ни условностей, ни стеснения. Тогда, припомнилось Борису, Тамара, выпив игристого вина, все порывалась выйти на улицу в одном купальнике. В конце концов, все-таки вырвалась и чуть не потерялась, танцуя в толпе. Но там почти все были так одеты, и на женщину в самом легком одеянии обращали внимание лишь постольку, поскольку это была пылкая, темпераментная и веселая красавица. В то время Борис сам сходил от Тамары с ума и, глядя на нее, отплясывавшую под бой барабанов, вскоре забыл обо всех окружающих.
На волнах плотных воспоминаний и мыслей он перенесся в недавнюю деревню, в гости к всемирной старушке, бабе Наташе.
«Гуляешь, милый?» – улыбнулась старая знакомая.
«Гуляю», – ответил Борис.
«Ну гуляй. Гуляй. Только не забывай, что тама, – показала она на церковь, – смотрять на тебе. А так, чего ж… погуляй, развейся. Делу время, потехе – час. Час! – повторила она назидательно. – А так чего ж… другой раз и погулять надоть. Только гляди, гульба – напиток. Не обжигися».
Борис мысленно обнял всемирную старушку и прошел в цветущий сад, в безмолвно ликующий праздник весны. Он остановился посреди нежных бело-розовых яблонь и замер: все они вместо запаха источали звуки, стройные ряды его симфонии. Этого Борис вынести уже не мог. Он закупорил бутылку, спрятал ее в кейс и стал усердно подниматься на вершину холма. Крутая тропинка струилась косо вверх среди пожухлой, ржавой травы, уже побитой ночными морозами. Ногам Бориса требовалось немало усилий, чтобы удерживать равновесие, но он с упрямым упорством взбирался все выше и выше по направлению к Храму. Однако перед дверью остановился. Над входом в церковь висела небольшая икона, изображавшая Деву Марию с младенцем на руках, и Борис, столкнувшись с ними глазами, опустил голову. Войти в Храм не решился. Он осенил себя православным крестом и произнес внутри себя произвольную молитву, в которой просил юного Христа и Пресвятую Деву простить его и помочь вынести сочиненную симфонию на большую сцену, поскольку все звуки и темы были продиктованы небом. В ответ Борис словно услышал голос, произнесший некое непроизвольное утешение. «Запасись терпением. Жди. Твое время придет», – молвил кто-то в небесах.
Борис, удивленный, еще раз осенил себя крестом и пошел от Храма прочь. В нем снова загорелась надежда, хоть он ей и не вполне верил. Мало ли что может послышаться?
Тамара сразу поняла, в каком состоянии муж и что с ним случилось, однако виду не подала.
– Раздевайся, Лапа. Мой руки. Будем ужинать, – сказала она неестественно веселым голосом и быстренько скрылась на кухне, чтобы никак не выдать своего смятения и растерянности.
Борис сразу обмяк. Ему все мгновенно опостылело: и висевший на крючке халат, и домашние тапочки, и шляпа, попавшая в паутину вешалки. Это показалось глупым и пошлым. Но раздевшись, он прошел в ванную, снял рубаху и облил себя для свежести холодной водой. Затем Борис водворился к Тамаре на кухню, мрачно достал нотные тетради и початый коньяк.
– Сегодня, Лапуля, – с пафосом произнес он, – состоятся торжественные поминки по лирическому музыкальному произведению Бориса Борисовича Ганина «Сад».
Тетради с громким хлопком шлепнулись на стол. Тамара, стоявшая у плиты, резко обернулась.
– Не смей так говорить! – сорвалась она на крик. – Ты не имеешь права. Ты только проводник того, что дадено было свыше, и не тебе хоронить рукопись. Твой «Сад» уже тебе не принадлежит! Понимаешь? Нельзя опускаться до такой степени.
– А до какой степени можно опускаться? – язвительно спросил Борис, исказившись в лице, словно Тамара одна была виновата в неприятии и холодном равнодушии к поющему «Саду» Бориса.
– Ладно, Лапа. Давай успокоимся, – сказала примирительно Тамара и обняла мужа. – Мы никогда с тобой не ссорились. Неужели теперь, скажи, после того, как ты создал замечательную вещь, позволим себе такую глупость. Не поминки, а рождение… Почему бы нам не отметить рождение твоего, нет, нашего «Сада», – весело предложила Тамара. – Я тоже, согласись, косвенно принимала участие. Ведь мы, Лапа, по-настоящему и не праздновали это событие.
Она достала рюмки и накрыла стол.
– А потом ты возьмешь баян и будешь играть. Ты, по сути, ни разу не вынимал инструмент после Степановской опалы. Я так люблю твою игру. Сделай нам праздник, Лапа. Вместо похорон. Твое время придет. Верь только. Как я. И оно придет.
У Бориса начало быстро и горячо таять сердце. Защипало глаза. Он хрипло кашлянул и полез за сигаретами.
– Правильно, Лапуля. Давай праздновать. Черт с ним со всем. А то, представляешь, Женька Григорьев, – ты его должна помнить, – предложил разбить «Сад» на части. Пригласить текстовика – слово-то, блин, нашли! – и сделать эстрадную программу. Текстовик, – не унимался Борис. – Засранцы. Назвать поэта текстовиком. Однако ничего не поделаешь – время такое, – ерничал музыкант. – Все в порядке вещей. Вот и «Сад» мой никому не нужен. Хвалят, нравится, а никто не берет. В ходу другое. «Шоу» в ходу. Модное «Шоу». А я не модный. И не хочу им быть. Не так воспитан. Парадокс. Кошмар какой-то. Умом это понять невозможно. Тут вся бездна России. Умру, тогда, может быть «Сад» зазвучит. Изуверская, жуткая традиция – замораживать дитя до смерти родителя. Это же противоестественно. Оно, дитя, должно жить сразу, как только родилось.