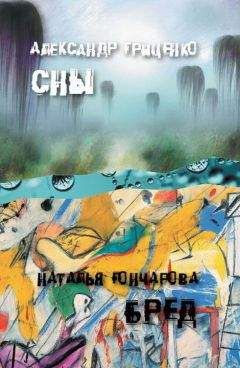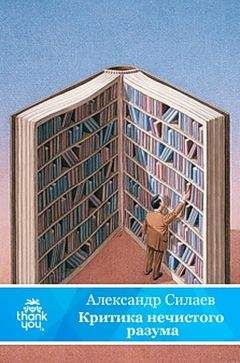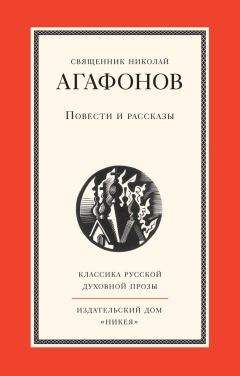Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
– Ладно, воробей. Ладно, – утешал он. – Это я так… От горя нашего. Ты же знаешь, я червяка не обижу. А эти сволочи… посмотри, что они с нами сделали! Куда мы катимся? Мы же, Тома, летим с тобой в пропасть. И столкнули нас туда они, Степанов со своей мымрой. Вот я и подумал: им не место на земле.
– Ах, Боря, Боря, – всхлипывала Тамара. – Разве не понимаешь – ты не судья. В этом мире один Блюститель. Он их и накажет. Никуда не денутся. А мы… что – мы?.. Господь и нам подаст руку. Вот увидишь. Все будет справедливо. Каждый получит по делам своим. Конечно, я тоже была виновата. Людей подзуживала, злословила. Гордыня меня душила. А ведь это грех, Боря. Большой грех. Может, – я иногда думаю, – за то мы и наказаны с тобой, Лапа.
Нынче отставные музыканты перестали замечать время, дни и месяцы. Часы в их доме в недоумении застыли и больше не заводились. Борис с Тамарой с некоторых пор забыли даже, кем доводились друг другу, забыли, что в былые времена их связывали и нежность, и любовь, и общие устремления. Да и вино прежде было лишь радостным дополнением к основной, постоянно обновляющейся, феерической жизни. Сейчас она обрела вид тусклого однообразия, медленно перетекающего из одного утра в другое. Из одного вечера в следующий. Трезвые минуты вопили им в уши визгливыми голосами обрушившейся трагедии и, имея тонкий музыкальный слух, и Борис, и Тамара не в силах были совладать с этими звуками. Они, звуки, словно бы сливались в одну долгую какофонию из визга трамваев, надсадных криков электропоездов, топота людской массы в метрополитене, сочных ударов топора мясника, грохота разбитых стекол… Сверкающие, колючие звуки.
По утрам, пока Борис неспешно одевался, справлял туалет, брился, Тамара хлопотала на кухне, изготовляя обычно замешанные на воде блины, которые при остывании, перед принятием в пищу, стоило бы отбить молотком. Готовить она не умела. Они с Борисом привыкли к ресторанам, кафе, бистро и по поводу приготовления еды не знали прежде никаких забот. Но Борис на Тамару как на хозяйку не обижался. Во-первых, потому что жалел ее и считал, что Тамара пострадала из-за него. Во-вторых, он всегда жил только музыкой и, как большинство музыкантов, был абсолютно неприхотлив. И в-третьих, после разлада со Степановым Борису было все едино, чем питаться.
Так прошелестела метелями одна зима, другая. Жизнь листала их, как серебряные страницы заиндевевшей книги. Из искрящихся ночей пробивались порою волшебные звуки цыганских скрипок и гитар, повенчанные хрустальным звоном разыгравшихся бубенцов. Нежным комом бешено уносились прочь недели и месяцы, унося на своих крыльях пепел былой славы и мастерства.
Однажды по весне, когда по всей округе зашумела сирень, и от Крылатских холмов потянуло обворожительной прохладной свежестью, Тамара вышла на залитый солнцем балкон и молвила в восторге: «Как хорошо!»
– Все! – твердо сказал Борис. – Больше ни капли. Начнем сначала. Какие наши годы.
Отныне репрессированные музыканты, отбыв в лесу золотых свечей заутреннюю в Церкви Пресвятой Богородицы, спускались, дыша густой зеленью, в низину холмов, к чистому целебному источнику, и Тамара успевала набрать букетик ландышей. Через неделю-другую она посвежела, разрумянилась и вся засверкала былой радостью, негой и желанием. Борис в сладком защемлении сердца тут же отметил этот неоспоримый факт. Он и сам окреп, поправился, мешки под глазами исчезли, а зрачки налились солнечным весенним светом. Их ночи с Тамарой наполнились прежней любовью. Мир снова стал чудесным. Тикали заведенные часы. Одуряюще пахла сквозь открытые окна свежая зелень.
К лету Тамару осенило.
– Собирайся, Лапа, – наказала она Борису. – Поедем в деревню. Чего тут московскую пыль глотать?
В глухой деревушке под Тулой у Тамары жила родственница, всемирная старушка о восьмидесяти годах. Она, эта старушка, сама себя так называла окружающим, – всемирной, – из соображений, очевидно, общей схожести всех старушек планеты, и жила в счет будущей жизни.
– Я, оказывается, уже была прежде. В ранние века, – сообщала она односельчанам после прослушанной однажды передачи по радио. – И потом рожусь опять. А вы как думали? Рожусь. Рожусь. Молодой. Красивой. Хтой-то сызнова в меня зерно вбросить. Так оно и будет без конца-края, – пророчествовала старушка, баба Наташа.
Вот к этой просвещенной родственнице и надумала ехать Тамара, раз уж коньяку, слава богу, дали отбой.
Сборы были недолгими. Борис, правда, узнав, что деревню огибает тихая рыбная речушка, да лежат посреди леса два серебряных озера с карасями, тут же помчался покупать удочки.
Тамара вдруг обнаружила в себе практическую жилку. Она позвонила в заинтересованное агентство и оно, агентство, уже через час выставило на порог ее квартиры солидную пару, мужа с женой, молодых ученых, готовых за приличную сумму снять хоромы Тамары Петровны на все оставшееся лето. До глубокой осени.
– А что, Лапа, – объяснялась Тамара. – Тебе к зиме верхнее пальто надо? Надо. И мне шубку. Мы-то с тобой, как птички, все больше по теплым странам порхали. Нам зимняя одежда не нужна была. Теперь приходится заботиться.
– Верно, воробей, – соглашался Борис. – Ты у меня умница, Лапуля. Мне бы и в голову не пришло, что можно на нашем отъезде еще и денег заработать.
– Я уж давно сообразила, – радовалась Тамара. – Только боялась, ты рассердишься.
– С чего бы это, Лапуля? – удивлялся Борис. – Все ты исключительно верно придумала. Бочка-то у нас не бездонная. Поступлений никаких. Благо, в последние годы славно платили. А так бы нам с тобой одно оставалось – в метро с протянутой рукой. Или веревочку куда приладить. Кому мы нужны, народники, в век шоу-бизнеса?
– Господь с тобой! – Испуганно крестилась Тамара. – Выбрось из мыслей веревочки всякие. И не вспоминай вовек. Вот, что я тебе скажу: вернемся из деревни – будем работу искать. Хватит лодырничать. Подумаешь, трагедия. Да что, на Степанове свет клином сошелся? Все будет хорошо. Ну что ты сидишь?
– А что?
– Поцеловал хотя бы.
Всемирная старушка, баба Наташа, встретила гостей радостно. Все ее застывшие от старости чувства вдруг воспламенились, запылали в душе ярким огнем счастья.
– Ай молодцы, что приехали! – всплескивала она руками. – Уважили. Вспомнили старую. Живите на доброе здоровье. Места усем хватить. Каково сердечно. А мужик у тебя справный, – без лишнего стеснения разглядывала баба Наташа Бориса. – Гладкий мужик. Только тонкий маленько. Ну это не беда. Мы его тута поправим. Огурчики, помидорчики пойдуть. Вот он у нас и взопреить.
Они расположились на втором этаже, в ладной, уютной мансарде, под окнами которой уже пылал белым цветом вишневый сад. Вдали видны были бархатно-зеленые поля, окруженные со всех сторон таинственной, темной стеною дрожащего в солнечном мареве леса.
Борис открыл окно и сердце его прямо-таки забилось, зашлось, защемило счастливой тоской детства, когда хочется всего сразу… Словно тебя накрыли легкой золотой парчой. А в руках живет и толкается горячей кровью трепетно-нежное тело мира.
– Знаешь, Лапуля, – признался Борис. – Я сейчас смотрю на все это юное, какое-то торжественное рождение земли, смотрю – и слышу музыку.
– Тут везде музыка, – согласилась Тамара. – И в саду, и в лесу, и в поле, на озере. Мне кажется, – добавила она, – ты еще не все слышал, мы еще не безнадежны.
– Надо же, проехали полмира, – сказал Борис, не в силах оторваться от вида за окном, – но мне вдруг подумалось: все прошлые впечатления не стоят и одного здешнего дня, одного взгляда на такую вот затерянную русскую деревню. Весна, деревня, цветущий сад. Какая-то теплая мелодия юности.
– Да, милый, – сказала Тамара и вздохнула, словно сожалея о потерянном в тех заморских поездках времени.
– Тула, Калуга, Ярославль, Новгород – все русская земля, – пространно сказал Борис. – Здесь, а не где-нибудь, душа Петра Ильича Чайковского наливалась восторгом и печалью, тоской и счастьем. Все это переплелось под его пером и стало бессмертным.
– Да, Лапа, – тихо сказала Тамара. И, помолчав, добавила: – кстати, нотная тетрадь, даже три, лежат на дне клетчатого чемодана. Это к тому, что если тебе срочно понадо…
Борис быстро повернулся и благодарно поцеловал Тамару в губы, а затем жарко выдохнул:
– Любимая моя. Ты не знаешь, как я… какие у меня внутри… Ты моя единственная. Милая моя. Хорошая.
Речка была недалеко. Борис на потеху местным жителям начал бегать по утрам в одних шортах на берег, где уже сидели с самодельными, выструганными до костяной белизны удочками деревенские мальчишки.
Он бросался в прохладную, плавную воду, плыл и возвращал себе былую, юную силу. Удил рыбу и частенько возвращался с вязанкой крупной серебристой плотвы. Попадался полосатый окунь, лещ, щука. Дни казались одним светлым праздником.
Женщины, баба Наташа с Тамарой, встречали солнце, копаясь в огороде. Две согбенные фигуры, два повернутых на запад, оттопыренных зада среди сверкавшей от росы зелени напоминали о старине и вечности.