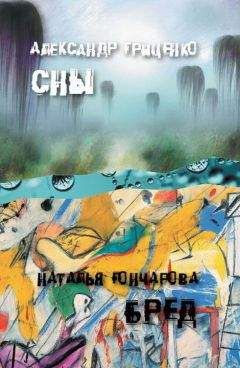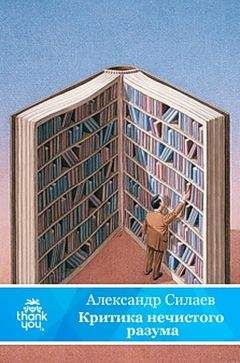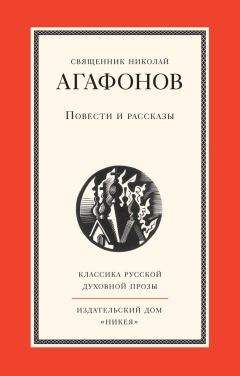Владислав Сосновский - Ворожей (сборник)
Чукчи подарили мне унты, охотники-орочи – шапку из рыси и собачью шубу, – отказ здесь равнялся кровной обиде.
В каждой поездке я безумно скучал по Чайке. И по Москве. Но эти предметы жизни везде незримо были рядом. Мой же неотлучный друг – костяной путник – провозгласил однажды: «Твой час!»
Да, это был мой час, тот самый, о котором я когда-то тосковал в столице, чувствуя себя деревянным шкафом с поношенной одеждой.
Но вот однажды, вернувшись из очередной командировки, я первым делом помчался к Чайке. Дверь мне открыла коридорная соседка и почему-то шепотом сообщила, что мать Чайки от какого-то своего тайного интереса вышла из окна наружу с третьего этажа. Жила она после этой прогулки минут десять, а потом превратилась в мертвое тело. Что у Чайки произошёл приступ, и она стала крушить в квартире всё подряд. Тогда приехали те, которые в белых халатах, и увезли её в психиатрическую больницу.
Мать похоронила общественность, а Чайка до сих пор в лечебнице.
Я рванул в редакцию к Михаилу Степановичу, потому что только он, редактор центральной газеты, мог помочь мне вызволить Чайку из сомнительного и опасного, на мой взгляд, заведения. Её могли для усмирения заколоть какой-нибудь дрянью, сульфидином, например, отчего бы она уже навсегда перестала быть Чайкой.
Захлёбываясь и глотая воздух, я сбивчиво поведал Михаилу Степановичу всю Чайкину историю и, конечно, то, какое я к этому имею отношение.
Редактор тут же позвонил куда-то, – в этом городе он знал всё и всех, – выяснил, где находится Чайка, под чьим она контролем и коротко сказал мне: «Поехали. Быстро».
Мы сели в редакционный «Жигуль» и через пятнадцать минут, которые показались мне вязким часом, были на месте.
Сам вид больницы вызвал во мне отвращение и ужас. Перед нами вырос четырехэтажный каменный монстр в желтой облезлой шкуре с зарешеченными мутными глазами и ощеренной пастью такой же зарешеченной входной двери. Во чреве этого монстра и томилась под видом лечения моя единственная, моя неповторимая розовая Чайка.
Я почувствовал, как неожиданно у меня ослабли ноги, и сказал Михаилу Степановичу, что подожду на улице: мне действительно не хватало воздуха и щемило сердце. Да. Сам я вряд ли мог что-либо сделать. Кто я был Чайке? Муж? Брат? Сват? Кто?!
Я закурил и, глядя в небо, стал просить Наблюдателя помочь мне, помиловать Чайку и дать Михаилу Степановичу ту власть, которая позволила бы ему вырвать Ольгу из лап рачителей душевного здоровья, которые сами, как мне было известно, зачастую нуждались в лечении.
Я курил одну сигарету за другой, потому что время в моем ощущении опьянело и свалилось замертво; а когда оно очнется, это чёртово время, было неведомо.
Я припомнил все, что у нас было с Чайкой, от самого начала. От нашего летучего и счастливого знакомства в московском метро до последней встречи. Припомнил всю её нежную, ласковую, трепетную женскую суть, её чудесное тело до последней родинки, её фантазии, полеты, слова и напутствия. И – молился, молился, молился.
Дверь больницы отворилась неожиданно резко. Из неё не вышли, а буквально вынеслись трое мужчин в белых халатах и две женщины в том же одеянии. Впереди всех был Михаил Степанович. По выражению его лица и лиц остальных я понял, что произошло нечто ужасное. Внутри у меня всё обуглилось в предчувствии какого-то страшного приговора, и я пошел навстречу врачам на каменных ногах.
– Её нигде нет, – сообщил Михаил Степанович, тяжело дыша. – Обыскали всю больницу.
– С утра была на месте, – добавил медработник, видимо, главврач. – Не понимаю. Ничего не понимаю. Отсюда невозможно сбежать! Это не тюрьма. Отсюда немыслимо…
– В милицию я позвонила, Юрий Юрьевич, – услужливо выпятилась одна из медсестер.
– Не понимаю, – повторил Юрий Юрьевич. – Сбежать практически невозможно.
– Сбежать невозможно, – врастяжку сказал я, ощущая, как весь мир вокруг превращается в пепел. – Но она – Чайка. Ей под силу просто улететь.
– Что? – сказал второй врач.
– Как, значит, улететь? – спросил Юрий Юрьевич…
Вечером я пошел к океану. Широкое поле залива было укрыто ровным снежным покрывалом.
Я долго смотрел на это поле, не имея внутри себя никаких мыслей. Лишь тугая, тяжелая тоска по-тюленьи ворочалась во мне, терзая одним и тем же вопросом: где ты, моя Чайка?
И вдруг я четко увидел посреди залива большие песочные часы, – Клепсидру, как называли такие счетчики времени древние греки. Нижняя их часть была заполнена зыбучим материалом. Лишь малая толика песка оставалась в верхнем прозрачном конусе. Когда же последние крохи просочились вниз, из-за дальней темной сопки протянулась чья-то громадная рука и перевернула часы для нового действия. Тогда с той же сопки слетела крупная розовая птица и уселась поверх древнего механизма, поглядывая на меня острым внимательным глазом.
– Ты хотел владеть? – услышал я знакомый птичий голос. – И быть свободным? Но владеть и быть свободным невозможно. Радуйся тому, что есть вокруг. Каждой ветке, прорисованной в небе, голубому излому льда, черте окоема, неведомой дали. И чайке, однажды пролетевшей над тобой с радостным криком.
Я достал костяного путника.
– Как мне найти в этой круговерти Чайку? – спросил я старца.
«Твое желание – есть луч, – сказал костяной странник. – Луч превратится в мысль. Мысль – в образ. Образ – в реальное воплощение. Так было создано все в этом мире. Жди встречи!»
Я пригляделся к древним часам. Песок в них был утекающим, безмолвным временем.
Розовая чайка спокойно сидела на верхней планке хрустального конуса, опущенного острием вниз. Как большие, добрые звери, по обе стороны залива очарованно застыли синие сопки.
И мне показалось на мгновенье, что все это: и сопки, и чайка, и часы, и залив, и сам я в том числе – лишь легкое отражение чего-то далекого, нездешнего, робкий снимок с какой-то старой, ветхой картины. А может, на самом деле так и было.
МОСКВАКонечно, я нашел Чайку. Вернее, она снова нашла меня. Я был на берегу и мысленно бродил по острову Спафарьева, который, помните, я говорил, висел над морем. На самом горизонте. Тут меня и обнаружила Чайка. То ли на берегу, то ли на самом острове. Не уверен точно. Не стану описывать, что это была за встреча. Вскоре мы вернулись в родную и дорогую нам обоим столицу. Через некоторое время родилась дочка-Веточка, как и хотела в прошлом Чайка. И я, могу похвастаться, теперь чуть ли не каждый день гуляю с ней, с Веткой, по Измайловскому парку, часто вспоминая эту, выше описанную, необыкновенную, согласитесь, историю.
«Вот и все, – сказал мне однажды костяной монах, снова стоявший на моей книжной полке рядом с иконой Христа. – Теперь у тебя есть дом, жена и дочка. Но запомни: истинным твоим домом всегда будет Дом в океане».
Больше за всю мою жизнь костяной путник не проронил ни слова.
Конечно, полагаю, всем хотелось бы, чтобы на самом деле так мой роман и закончился, к общему, надо думать, удовольствию.
– Однако, – сказала моя старая знакомая, Богиня Артемида: в одной руке – лук, в другой – копье. За плечами – колчан. – Ты, я наблюдаю, неплохой сочинитель и даже, бывает, искусный враль. А главное – безумец перед богами. И это мне нравится. Лети же по ветру, как птичье перо. Помнишь, я говорила тебе в самом начале. Лети, но ни за что земное не цепляйся. Прощай.
– Прощай же и ты, прекрасная Артемида, сестра Аполлона, дочь Зевса и Латоны, ненаглядное чадо царя Кадма.
Понятно, дочь Зевса Артемиду, я никогда не видел. Мелькнул лишь ее тонкий девичий абрис. Иначе я превращен был бы в оленя и растерзан ее собственными собаками. Можете не сомневаться – так бы оно и было.
Проводник
Повесть
Они выплеснулись неожиданно из темной чащи кустарника.
Вылетели на солнце, вспыхнули, обожженные счастьем бесшабашного, упоительного галопа, и понеслись наперегонки, рассекая траву и цветы.
Рыже-золотым клубком катилась по зеленому лугу Джулька, словно кто-то сильной рукой запустил ее из сиреневых чащоб, а рядом с нею ошалело летел похожий на небольшого волка радостный Джулькин избранник – Боцман.
Иногда Джулька прямо на бегу, на всем их бешеном спринте умудрялась лизнуть Боцмана в щеку, умудрялась обнять его лапой или просто коснуться шерсти, что тоже было проявлением любви. И Боцман совершал то же самое.
Если бы вы стояли на пригорке, а перед вами искрился, рассыпался и сверкал беспорядочный цветочный луг, по которому носились голова к голове две дворняги, вы бы сразу поняли: они любят друг друга. Они действительно любили и были неразлучны.
А началось дело с того, что Боцман, давно, видимо, положивший на вислоухую красавицу Джульетту свой острый собачий глаз, задыхаясь от счастья, проник в подъезд Джулькиного дома и, уже не в силах объясняться в чувствах, просто овладел ею. Они замерли в потоке блаженства и так стояли, ощущая любовь.