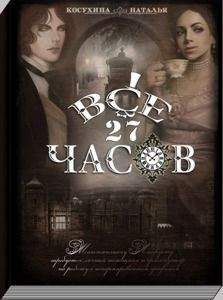Эден Лернер - Город на холме
− Отвар корня женьшеня. Не думаю, что тебе понравится.
− Кошмар. Зачем ты это пьешь?
− Чтобы не спать. Действует лучше кофе и не так вредно.
− По всем документам выходит, что деревня Дейр Каифат и прилегающие к ней пастбища стоят на земле, приобретенной евреями. Я собрал материал. Копии из архива лежат в сейфе в йешиве. Сейчас… у меня записано.
Он достал из кармана записную книжку и принялся монотонно читать, раскачиваясь, как во время молитвы.
− Оттоманский наместник в Хевроне Иззет-паша в 1885 году подарил 800 дунамов земли некоему эфенди Абу Ибрагим Тамими, известному своим благочестием и регулярными поездками в Мекку, а также услугами, оказанными оттоманской администрации…
− Восхитительно. Турок жалует арабу еврейскую землю.
− Не перебивай. Жил-поживал эфенди Абу Ибрагим, и вырос у него сын, естественно, Ибрагим, и унаследовал отцовские богатства. Однако Ибрагим в своих владениях не очень-то появлялся и предпочитал Бейрут и Каир. И тут появляются евреи…
− Как всегда там, где их не ждали.
− И покупают 600 дунамов за полновесные британские фунты. От имени Керен Каемет ле-Исраэль купчую подписал некто Нафтали Прозоровский.
− Тоже, наверное, из ваших.
− Из Одессы. Значит, появляются евреи и строят во-он на том холме… сейчас темно, не видно… поселение типа “стена и башня” под названием Ор Серафима в честь убитой в первый месяц после основания Серафимы Прозоровской.
− По-русски Серафима это женское имя?
− Я просил не перебивать. После хевронских событий, измотанные непрерывными стычками и гибелью товарищей, евреи оставляют поселение Ор Серафима. Так… прекращение огня 1949 года, здесь занимают позиции части Арабского легиона, а земля отходит в иорданскую казну. Иорданская администрация послала сюда землемеров, и те, на основании оттоманских документов, закрепили владение землей за семейством Тамими. На деле это выглядит так, что односельчане платят им частью прибыли от урожая. Дальше 1967 год: за исключением сотни дунамов земли, конфискованной под военную базу, никто из евреев никаких имущественных претензий им не предъявлял. Пока. Ты чего улыбаешься?
− Мечтаю. Как идиот абсолютный. Мечтаю о времени, когда мы будем строить здесь библиотеку.
− Почему именно библиотеку?
− Потому что Офира оставила мне три тысячи книг, которые я не знаю, куда девать. Здесь будет самая большая библиотека на шоссе № 60. Офира была бы рада.
Алекс посмотрел на часы.
− Через полчаса солнце встанет. Пойдем будить народ на утреннюю молитву или будем дальше мечтать о кренделях небесных?
− Алекс, не будь монстром. Вспомни, когда они вчера легли и сколько работали. В йешиве в это время все уже давно третий сон видят.
− В йешиве, чтоб ты знал, кто-нибудь да учится в любое время дня и ночи. Ладно, давай я поиграю, если у тебя уши не завянут.
Он молча перебирал струны гитары, а я думал о Нафтали Прозоровском. Он полагал, что имеет дело с честными людьми, он им деньги, они ему землю, и все смогут дальше жить как соседи. А они посмеялись над его наивностью и забрали у него самое дорогое − жену или сестру. А может, мать? Нет, пожилые олим обычно селятся в городах, а не на форпостах. А может, дочку, Серафиму-маленькую? Нет, ребенку, рожденному в стране, не стали бы давать имя из России.
Ты, мой товарищ дорогой
Ты, мой товарищ боевой.
С тобой связала нас любовь к своей отчизне.
Здесь, на участке небольшом
Вгоняя в камень штык и лом,
Заставу ставим мы, как дело нашей жизни.
А над палаткой нашей дождь стоит стеной.
Холодный ливень горный поднимает пыль.
Тут наша служба, тут, товарищ, мы с тобой
Всерьез стараемся из сказки сделать быль.
Делить нам нечего зараз.
С Небес приказ – для всех приказ.
Тут, среди наших, все, что есть, то − только наше.
Чужие там, за той грядой, чужие есть и за спиной,
И мы от тех и от других стоим на страже.
Пусть над палаткой нашей дождь стоит стеной,
Холодный ветер горный снова будет выть,
Тут наша служба, тут, товарищ, мы с тобой
Участок Родины поставлены хранить[254].
− Потрясающе. Ты это что, сам написал?
− Нет, это написал русский пограничник на границе с Таджикистаном. Я только перевел на иврит и слова в одном месте поменял.
Я задумался.
− Про приказ с Небес?
− Молодец, сечешь поляну.
Через полчаса действительно рассвело. Мы встали на молитву. Справа от меня стоял Алекс, слева длинный нескладный Менахем. Несмотря на то, что он родился на этих холмах, у него облезала и шелушилась под солнцем кожа на лбу и на носу. Впереди полосами белого известняка сверкал холм Ор Серафима.
После молитвы позавтракали, и я в очередной раз поразился их дисциплине. Небритые, плохо стриженые, с чернотой под ногтями, в штанах “здравствуй, Гарлем” они выполняли приказы с Небес так, что их четкости, быстроте и выправке позавидовал бы любой спецназ. Это при том, что они находились одни в изолированном опасном месте, без родителей, без наставников, без машгиаха[255]. Сюда и дозвониться-то было непросто. Эта была та самая дисциплина, которая идет изнутри. Еду им привозили пару раз в неделю из кухни Шавей Хеврон. Я предложил привезти свое, нам с Малкой действительно было нетрудно налепить котлет на весь миньян, но Алекс отказался. Они ели только приготовленное на кухне йешивы и только тамошним поваром. Исключение было сделано для Менахема, потому что у него был целый букет пищевых аллергий, но и ему мать готовила не дома, а там же, где всем.
− Вспомни, как было в армии. Все едят одинаковый паек. Мы здесь в армии. И потом – представь, выстроится здесь очередь из наших мам с кульками. Это же будет со всех сторон опасно и ужасно.
Да, если пустить сюда мам с кульками, то никакого бульдозера не надо, дорожка сама по себе появится. Когда еврейская мама хочет заботиться о своем ребенке, то она без стеснения звонит командиру его батальона, и даже сотня террористов ей не помеха. Офире не помешала даже собственная гибель. Когда я увозил книги, то обнаружил на одной из полок конверт, адресованный Малке. О том, что нельзя читать чужие письма, я впервые услышал, стоя в этом самом салоне. Ни дома, ни в школе меня на эту тему не просветили. Прочел уже после Малки, с ее разрешения. Письмо начиналось и кончалось теплыми ласковыми словами, а в середине шло штук сорок аккуратно пронумерованных инструкций, как, например:
Не давай ему книг с плохим концом, он не всегда отличает вымысел автора от реальности и потому расстраивается.
Постарайся, чтобы он не увлекался жареным мясом и копченостями, это не полезно
и (шедевр!)
Проследи, чтобы он не терял контактные линзы.
− Завтра приеду с бульдозером на платформе.
Благословен коммерческий директор концерна, закупающий новое оборудование задолго до того, как вышло из строя старое.
Дорожные работы не были моей основной специальностью. Для начала требовалось хотя бы выкорчевать кустарник и разровнять полотно. Нормальное дорожное строительство предполагает стоки и дренаж, иначе даже в нашем климате через какое-то время дорога начнет оседать и расползаться. Придется строить нечто временное, чтобы пережило хотя бы одну или две зимы, а там поселение легализуется, и будет заключен контракт с нормальной строительной бригадой.
Я включил мотор, и бульдозер медленно пополз по невысоким холмам. Овцы с интересом оглянулись на неведомую машину и спокойно продолжили жевать. Два пастуха-араба, один подросток, другой постарше, начали возмущенно орать, сохраняя, тем не менее, безопасное расстояние. Стоявший между ними и бульдозером Алекс выстрелил в воздух.
− Не трать патроны. Сейчас сюда вся деревня явится. Посмотри, он уже на телефоне.
Старший из пастухов вызывал по мобильнику подкрепление. А мы не могли. После Гуш Катифа и Амоны эти мальчишки не доверяли людям в форме, и я не мог их винить. Позвав подкрепление, мы рисковали тем, что нас всех покидают в скотовозки, и на этом все закончится. Ирония состояла в том, что умирать я уже не хотел, но такой исход становился все более и более вероятным.
Их явилось человек тридцать, мужчин где-то половина, остальные женщины и подростки. Оружия я ни на ком не заметил, но это не значит, что его не было. Иностранцы тут тоже были, двое или трое. Свидетели оккупации и угнетения Израилем мирных палестинцев. Сейчас начнется. Я не понаслышке был знаком с арабской привычкой начинать перечислять все обиды, нанесенные им “от короля Яна Собеского”, вместо того чтобы дать четкий ответ на простой вопрос. Про короля Яна Собеского я впервые услышал от тети Дворы в Цфате. Судя по ее рассказам, бабушка Бина-Ходел была женщина доброй, но языкатой и при этом любительницей крепких выражений. В поисках подходящего словца или цветистого описания она, не колеблясь, мешала в одном предложении идиш, польский, и услышанный на улице иврит. Тетя Двора рассказывала, а я вспоминал свою маму – молчаливую, забитую, боящуюся лишний раз рот открыть. Что он сделал с ней, чего не сумели сделать с бабушкой Биной даже несколько лет гетто и лагерей?