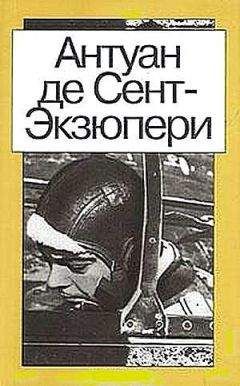Анатолий Михайлов - У нас в саду жулики (сборник)
1
Лена забодала пудру – и всего за семерик. И теперь переживает: наверно, продешевила.
Села со мной рядом на ящик – и сразу же выглянуло солнышко.
А там, наверху, – другое.
2
«На трехколесном велосипеде (рассказывает) крутит педали девочка. И рядом шагает дед.
Дедушка ее подтолкнул – и девочка уехала далеко вперед.
Девочка недовольна. Она хочет ехать сама.
Поворачивается и кричит:
– Деда, меня не надо было толкнуть!»
Я беру Ленку за плечи и среди ящиков у нашего овощного усаживаю ее рядом с собой на обложке.
И никаких псевдонимов.
– Михайлов, – улыбаюсь, – и Гусева.Мои университеты
1
Я думал, это мужик. А это, оказывается, негритянка. Килограммов под сто. А может, и под все сто двадцать. И вместо юбки – штаны. И что-то мне по-своему все чешет и чешет. И кивает на мой чемодан.
Все повторяет: тэйбл, тэйбл… И так ослепительно улыбается.
Прохожий останавливается и приходит мне на помощь. Оказывается, с чемоданом здесь стоять не положено. А можно только со столом. И если я сейчас не уйду, то она меня оштрафует.
Я говорю:
– Сенк ю… экскьюз ми… вери вел… ай эм рашен… бук…
Ну, и надыбал у корейцев короб из-под апельсинов. А может, у китайцев. Напрокат. И на короб поставил плашмя чемодан. А сверху еще замаскировал клеенкой. Ну, чем не тэйбл?
Но номер не прошел.
Минут через пятнадцать снова подходит и грозит мне пальцем. И чуть ли не в полпальца маникюр. Сам палец коричневый, а маникюр почему-то фиолетовый.
И больше уже не улыбается. Зря, что ли, у нее на ляжке кобура.
Вот и пришлось тащиться на Восьмую вест. Здесь у них барахолка.
2
Я ожидал толпу, а тут даже никто не толкается. Всего два-три человека. Зато барахла – несколько километров…
Он и она. Похоже, супружеская пара. Торгуют мебелью. Уже немолодые.
Я говорю:
– Здравствуйте. Вы понимаете по-русски?
Поворачивается к мужу:
– И он еще меня спрашивает!
Я говорю:
– Мне нужен стол.
– Вам, – интересуется, – какой – из мрамора? Или для гостиной?
– Желательно, – говорю, – переносной.
Поворачивается к мужу:
– Принеси человеку стол.
Приносит какую-то складную рухлядь. И страшно тяжелую. Килограммов на десять.
– Нет, – говорю, – не пойдет. А полегче не будет?
Поворачивается к мужу:
– Принеси человеку полегче.
Приносит теперь металлический. (Тот был деревянный.) На этот раз полурухлядь килограмма на четыре. Пойдет.
Жадно ловят мой взгляд. И чувствуют, что возьму.
– Мы, – говорит жена, – уступим вам за копейки. – И смотрит на мужа.
Муж говорит:
– Всего за десять долларов.
Вытаскиваю из сумки одну из своих книжек. Ту, где отчетливее харя.
– Я, – говорю, – писатель. И мне нужен стол.
Подумал и зачем-то добавил:
– Для торговли.
Тоже му…к.
Смотрит на харю и сверяется с моей.
Улыбается:
– Похож.
Муж уже раздвинул у стола ножки.
Жена любуется:
– Вы можете его покрасить. И будет красавец.
Теперь любуются оба.
Я говорю:
– Пять.
И сам испугался своей наглости.
Жена говорит:
– Ладно. Берите за семь.
Муж протестует:
– Нет. За восемь.
Жена теперь любуется мной:
– Какой симпатичный писатель. Пусть берет за семь.
Муж смотрит на жену и презрительно отворачивается.
Отслюниваю и пересчитываю еще раз. Не передать бы лишнего.
Жена чуть ли не кланяется в пояс и желает мне счастливого бизнеса. Муж ей уже все простил и тоже присоединяется.
На прощание приветливо улыбаются.
3
За сделкой издали следил еще один еврей. Когда две стороны работают – третья не лезь: святая святых. Но после отбоя сразу же вмешался. Похож на артиста Весника.
– Чем, – спрашивает, – промышляете?
– Вот, – говорю, – торгую своей книгой. Приехал из России.
Может быть, купит и ликвидирует часть моей глупости.
Листает.
– Всего, – говорю, – три доллара.
Опять мудак. Сказал бы лучше два.
– Да, – говорит, – интересно.
Он, правда, русские буквы уже начинает забывать. Некогда. Так, иногда пробежится по газете. Но как надо было торговаться, может мне объяснить.
Оказывается, нужно сразу заламывать доллар. И на трех бы, уверяет, сошлись.
– А вообще-то, – улыбается, – гарбич.
Гарбич значит по-ихнему говно. Не то чтобы говно. А так. В машину для мусора.
– Да я и сам уже понял. Дал, – говорю, – промашку.
– Бывает. – И все продолжает улыбаться.
И вдруг лезет себе в карман и сует мне бумажку. Наверно, доллар.
– Бери, бери… На счастье…
– Да что вы, – говорю, – зачем… – но бумажку не выпускаю. И все пытаюсь ему всучить свою книжку.
Так и не взял.
4
Я разжимаю кулак и вдруг разворачиваю пятерку. Мой тэйбл мне обошелся всего в два доллара.
И все-таки странно. У нас, если ты му…звон, тебя еще вдобавок и ограбят.
А здесь – наоборот.
Минин и пожарский
1
Все засмеялись, и с видом победителя Мишка снисходительно заулыбался. Такой одутловатый и в майке. И на правом плече вытатуированный крест. А в левом ухе серьга.
Но я все равно не сдаюсь.
– Ну, какой же, – говорю, – Молотов революционер?
Но оказалось, что это не только про Молотова. Просто все наши революционеры сначала, конечно, были русские, а потом их окручивали еврейки. И не успеешь еще «кинуть палку», глядишь – и уже обрезанный.
– А как же, – смеюсь, – Каганович?
Но Каганович, оказывается, не в счет. Потому что он уже был еврей до обрезания.
А евреев Мишка определяет по зрачкам. И это очень просто.
Я говорю:
– А у меня в Питере есть кореш, так он их определяет даже на расстоянии. По запаху.
– По запаху – это, – улыбается, – само собой.
– Да нет, – говорю, – ты меня не совсем правильно понял. Просто по запаху – это, – объясняю, – может и каждый дурак. А мой корефан умеет их угадывать даже по телефону. Не успеет схватить трубку – и уже зажимает нос.
И все опять засмеялись. У нас теперь с Мишкой ничья.
– Ну, ладно, – говорит, – хочешь, почитаю свое?
Я говорю:
– Ну, давай.
И начинает жевать всю эту родимую канитель. Про луговину и про крылечко на околице. Ну, прямо вылитый Надсон.
А я его все слушаю и слушаю. И так нетерпеливо жду. И как-то даже заскучал. Уже чуть ли не ерзаю.
– Ну, а где, – спрашиваю, – где же твои евреи?
А про евреев, оказывается, он еще не успел. Мишка задумал такую трагедию.
Приходят в деревню оккупанты, и все евреи ушли в партизаны. А русского сделали старостой.
– Откуда же, – смеюсь, – ты взял в деревне евреев? Ты что, – говорю, – уже совсем?
Но оказалось, что не совсем. Просто деревня где-то под Бердичевом. А там одна жидовня.
– Ну, как примерно, – объясняет, – здесь. На Брайтоне.
– А я бы, – говорю, – на твоем месте сделал наоборот: русские ушли в партизаны, а еврей – в старосты.
На самом деле, соглашается, так оно и было, только русских там оказалось всего два человека. Как Минин и Пожарский. И евреи одного из них просто подставили.
Чтобы потом на него все свалить. А другого пришлось утопить. Как свидетеля.
– Да, – говорю, – вообще-то интересно.
Но все это у Мишки покамест еще только в зародыше. А вообще его идеал – Игорь Тальков. И тоже все вышло, как Мишка и предполагал: жидяра убил, а сам свалил в Израиль. А русского человека опять, как всегда, подставили.
– Вот так же, суки, убили и Есенина!
Я говорю:
– А разве Есенина убили?
– А ты что, – Мишка уже не на шутку ощетинивается, – ты что, не знал?
И тоже, оказывается, жидяра. По фамилии Коган.
Сначала этот Коган жил в Таллине, а в тринадцатом году свалил сюда в Калифорнию к своему сородичу раввину, бывшему русскому революционеру, пока не женился на еврейке.
И после такой информации мы вместе с Мишкой задумались.
– Ну, давай, – говорю, – подсчитаем. Есенин с девяносто пятого, и в тринадцатом году ему было всего восемнадцать. Он тогда и не уезжал из своей деревни.
– И все равно, – говорит, – его убил Коган.
Но потом я все-таки догадался. Ну, да. Тот самый. Соратник полковника Алксниса. Только Алкснис из Латвии, а Коган из Эстонии. Защитник русскоязычного меньшинства. Так вот защищаешь, защищаешь. И в результате убиваешь Сергея Есенина.
Ну, а Мишка – он ведь тоже из Таллина. И должен, конечно, этого правозащитника боготворить.
А сюда Мишка рванул по идейным соображенииям. И так и объяснил мне: сам себя заточил в тыл врага.
– Нужно, – говорит, – их изучить изнутри.
И сделался здесь не Мишка, а Мишка-Жидомасон. Такая у него теперь тут кликуха.
– Ну, вот, скажи мне, – и прямо чуть ли не плачет, – ну, за что, ну, за что их только терпит земля?!
Сначала развалили Россию. Теперь поставили раком Америку. А через тринадцать лет поставят раком весь мир.
– Нет. Ну, скажи мне. Только честно. Если ты настоящий русский писатель.
2
– А хочешь, – предлагает, – поедем в Толстовский фонд.