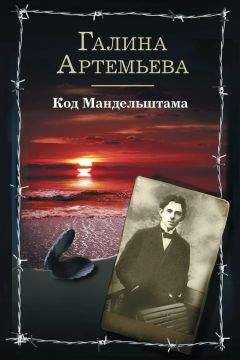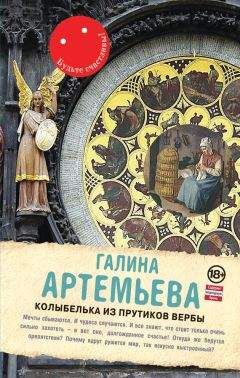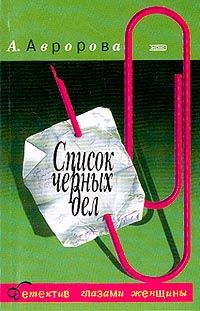Галина Артемьева - Кто косит травы по ночам
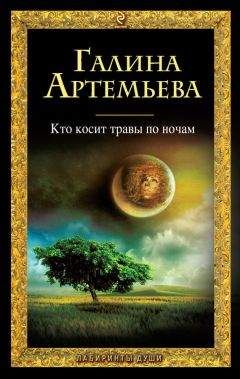
Обзор книги Галина Артемьева - Кто косит травы по ночам
Галина Артемьева
Кто косит травы по ночам
Моим дорогим любимым – мужу
Константину Лифшицу и детям – Оле,
Захару и Паше Артемьевым
Книга 1
Наедине с надеждой
Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться[1]…
Попытка перемены мест слагаемых
– Это осень пахнет, что ли,
Городской бензинной грустью?..
День стоял такой пронзительно осенний, прощально-ясный, что поневоле возникали стихи.
Только осень может подарить такую нечаянную и светлую радость, если после череды сумрачных, серо-облачных дней выдается один – как величайшее благо – с сонным сиянием солнца на акварельно-голубом небесном своде. Морозный воздух пока не пронизывает, а дарит ощущение чистоты и бодрости.
В такие редкие дни нет места меланхолии.
В них, этих светлых днях осени, есть загадка, как в застывшей полуулыбке. Чем она обернется? К чему готовит? К смеху или слезам? К широкой улыбке или гримасе страдания?
Но думать ни о чем не хочется. Лишь подстраивать бы свое дыхание в такт вздохам легкого ветерка. Лишь поднимать бы лицо к высям небесным.
Самое вдохновляющее время года. Все-таки почему? Может быть, дали виднее, горизонты необозримее, предзимняя пустота и тишина жаждут наполнения? И этот запах упавших листьев… Он что-то новое сулит. Дорогу обещает. Долгую-долгую. Дольше жизни. И покой…
Плотские радости и глубокая медитацияНадя постояла немного во дворе, наблюдая за своей знакомой большущей вороной. Та внимательно следила за котом, самозабвенно пожирающим какой-то, очевидно, лакомый и для млекопитающих, и для пернатых кусок. Ворона держалась индифферентно, стояла к коту боком, мечтательно, эстетски глядя на ковер осенней листвы. Казалось, плотские радости кота были ей абсолютно неинтересны, может быть, даже чуть-чуть неприятны, как отвлекающие от сосредоточенной медитации. Иногда она бросала в его сторону быстрый укоризненно-возмущенный взгляд, явно вопрошающий:
– Кто там так мерзко чавкает и урчит, нарушая тишину этого неповторимого утра?
После чего мечтательница делала брезгливый мелкий шажок, как бы отшатываясь от непотребно ведущего себя хама.
Однако каждый такой шажок не удалял ее от всецело отдавшегося чревоугодию кота, а напротив, сокращал расстояние между ними.
Вот-вот должен был наступить кульминационный момент. Простофилю-кота становилось капельку жаль, но расчет мудрой птицы поражал своей точностью. Надины симпатии были на ее стороне. Нечего зевать, дуралей. Жизнь – борьба!
Вот еще крошечный неслышный шажок…
И вдруг…
Даже Надя вздрогнула, хотя была готова к развязке.
Р-р-раз – и черная пернатая бомба взрывается под носом кота. Два – крылатая победительница с болтающимся в клюве куском уже высоко-высоко, на верхушке огромного дерева. Три – испуганный ограбленный кот истошно посылает проклятия агрессорше.
– Обставили тебя, Вася?
– Мя-я-я-ав, – надрывно сокрушается домашнее животное.
– А не расслабляйся, – советует Надя. И возвращается к своим делам.
Попытка обретения снаПора ехать. На даче такого созерцания будет более чем достаточно. Она надышится осенним воздухом, тишиной, далями засыпающей земли.
Это сейчас важнее всего. Ей нужно снова стать собой: погрузиться в работу, обрести спокойную медлительность, способность размышлять, выстраивая внутри себя картины небывалой фантастически-прекрасной жизни, которая потом может возникнуть на полотне, станет явной многим. И даже если не получится полноценно поработать, даже если большую часть времени она проведет в хлопотах по дому, в одном она уверена: на даче она обретет покой и сон. Нигде ей так хорошо не спится, как в родном деревянном доме, помнящем каждое ее лето: с младенчества и до сих пор. Именно там понимает Надя силу и правоту привычной поговорки – «Дома и стены помогают». Да, подмосковные дачные стены помогали всегда. Помогут и сейчас.
Плохо ей стало спаться в городе. Пусть ерунда, наваждение, но из-за ерунды просыпаться еженощно и остаток ночи гнать и гнать от себя кучу роящихся пустых мыслей – удовольствие очень маленькое.
Дача с момента ее рождения была местом, где она тут же, немедленно приступала к главному младенческому делу – сну. И, став взрослой, на дачный воздух реагировала она с трогательным постоянством: спала ночами как убитая. Хоть хороводы вокруг води – ничто не разбудит.
Главное слово детства – «разлука». Отец и матьОна сызмальства ненавидела три вещи: собираться в дорогу, прощаться, ждать. «Три» – магическое число. Вечно в сказках всего по три: три брата, три дороги, три головы у Змея-Горыныча. Так что, может, она специально разделила мучительную процедуру на три? А все это можно назвать одним словом – «разлука». Но составляющие ее именно таковы.
Надя, с младенчества оставленная отцом и матерью на попечение деда и бабушки, умело изображала счастливое детство, пряча невыносимую боль одиночества и оставленности глубоко внутри, так, чтобы никто не догадался о ее беде и слабости.
Родители развелись, когда ей не было и трех лет, и вместе она их не помнила, даже представить себе их супружеской парой не могла, такие они были разные. Потом они поженились на себе подобных: кропотливый спокойный отец – на своей коллеге, почти старой деве, некрасивой и старше себя, зато надежной, как гранитная скала, а мать обрела счастье с видным французским коммунистом, который несмотря на убеждения имел солидный капитал, огромную квартиру в Париже и даже самый настоящий замок с поместьем.
Девочку, конечно, время от времени брала к себе погостить то отцовская, то материнская семья, но добром это никогда не кончалось: противной, ревнивой и жадноватой жене отца она дерзила, разрушая устоявшийся порядок и покой их безвкусно обставленного и со злобностью несытого сторожевого пса охраняемого мачехой жилища. Мачеха яростно ревновала и ревности своей не скрывала, она ненавидела маленькую, но все-таки женщину за то, что та имела больший стаж знакомства с ее мужем и вследствие этого смела претендовать на нежные чувства с его стороны, которые таким образом отнимались у нее, законной супруги.
В конце концов отец, больше всего в жизни ценивший покой и размеренность, перестал приводить дочку в дом, предпочитая навещать ее у своих «стариков», как он всегда называл отца и мать. Здесь он становился веселым товарищем ее игр, здесь можно было затеять любую возню, устроить невообразимый беспорядок, от которого дед с бабушкой даже приходили в восторг – их дом оживал, как во времена детства их сына, когда к нему приходили друзья, заигрывавшиеся до самозабвения.
Однако за час до предполагаемого ухода отца она, как любой зверь перед землетрясением, начинала чувствовать тошнотворную тревогу, от которой болели внутренности, но больше всего – душа. Тогда она могла внезапно повернуться и уйти в свою комнату, чтобы не видеть прощальной суеты бабушки вокруг уходящего сына, всех любовно упакованных кулечков с лакомствами, которые она ему, как маленькому, совала, чтобы не чувствовать чужого запаха отцовского пальто, купленного т о й, чтобы не плакать, наконец, при прощании с тем, кто все равно не пожалеет и не поймет.
– Странное поведение, – бормотал озадаченный отец, не понимая, что тем самым дочь избавляла его, взрослого, от мук расставания. Бабушка согласно кивала в такт словам любимого сына, закатывая глаза, как бы безмолвно жалуясь на трудный Надин характер, доставшийся ей, уж конечно, не по их линии.
Только дед все понимал, только ему удавалось размягчить ком тоски то захватывающей историей из его далекого детства, то новой яркой книжкой, которая непонятно откуда всегда появлялась в нужный момент.
С матерью все было совершенно иначе. Ее Шарль – воплощение любезности и шарма – всячески приветствовал пребывание дочери жены в своем доме. Присутствие ребенка несколько упорядочивало слишком динамичную и, как сейчас бы сказали, тусовочную жизнь невероятно красивой молодой женщины, чье бурное жизнелюбие, сдерживаемое трагическими обстоятельствами ее прежней, советской, жизни, в Париже проявилось во всей мощи.
Надина мама была детдомовкой. Ее родители, как поначалу считалось, погибли почти в самом конце войны, когда ей едва исполнился годик. Только оказавшись во Франции, она рассказала мужу, что в детдом попала во вполне сознательном возрасте, в семь лет, после ареста отца и матери. Она прекрасно помнила все детали той бессонной ночи, когда видела папу и маму в последний раз. Помнила и не раз видела потом в сонных кошмарах, как толстомордая тетка – дворничиха, что ли? – повторяла во время обыска словно бы в пустоту: «Допрыгалась, допрыгалась», – и маленькая Аня была уверена, что это относится к ней и что родителей арестовали из-за того, что она, расчерчивая мелом на асфальте двора квадраты для игры в классики, так разъярила злобную бабу, что та из мести подстроила этот арест. Впрочем, кто там знает на самом деле, может, девочка была отчасти и права… Жизнями тогда играли мелкие бесы, все карты были крапленые.