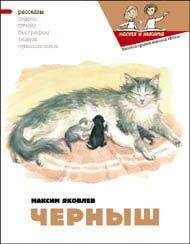Максим Горький - Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2
— От кого ни зачни, а дите кормить надо. Остробородый, утвердительно кивнув головой, вздохнул, потом вполголоса обратился к Самгину:
— Заботятся п-ро нас, учат, а нам — хоть бы что… У ног Самгина полулежал человек, выпачканный нефтью, курта махорку, кашлял и оглядывался, не видя, куда плюнуть; плюнул в руку, вытер ладонь о промасленные штаны и сказал соседу в пиджаке, лопнувшем на спине по шву:
— Слышал — Яков грибами отравился, в больницу отвезли.
— С ним — всегда что-нибудь, — глухо и равнодушно ответил сосед. — За ним горе тенью ходит.
Но говорили мало, приглушенно, голос Диомидова был слышен хорошо.
— «Плоть сытая и соты медовые отвергает, а голодной душе и горькое — сладко», — сказал царь Соломон.
Диомидов вертел шеей, выцветшие голубые глаза его смотрели на людей холодно, строго и притягивали внимание слушателей, все они как бы незаметно ползли к ступенькам крыльца, на которых, у ног проповедника, сидели Варвара и Кумов, Варвара — глядя в толпу, Кумов — в небо, откуда падал неприятно рассеянный свет, утомлявший зрение. Что-то унылое и тягостное почувствовал Самгин в этой толпе, затисканной, как бы помимо воли ее, на тесный двор, в яму, среди полуразрушенных построек. За крыльцом, у стены, — молоденький околоточный надзиратель с папиросой в зубах, сытенький, розовощекий щеголь; он был похож на переодетого студента-первокурсника из провинции. Заботливо разглаживая перчатку, он уже два раза прикладывал ее ко рту и надувал так, что перчатка принимала форму живой, пухлой руки.
— А еще вреднее плотских удовольствий — забавы распутного ума, — громко говорил Диомидов, наклонясь вперед, точно готовясь броситься в густоту людей. — И вот студенты и разные недоучки, медные головы, честолюбцы и озорники, которым не жалко вас, напояют голодные души ваши, которым и горькое — сладко, скудоумными выдумками о каком-то социализме, внушают, что была бы плоть сыта, а ее сытостью и душа насытится… Нет! Врут! — с большой силой и торжественно подняв руку, вскричал Диомидов.
Самгин привстал, ощутив холодок изумления. Ему показалось, что люди сгрудились теснее и всею массою подвинулись ближе ко крыльцу, показалось даже, что шеи стали длиннее у всех и заметней головы. Эта небольшая толпа вызывала впечатление безрукости, руки у всех были скрыты, спрятаны в лохмотьях одежд, за пазухами, в карманах. Казалось также, что, намагничивая Диомидова своим молчаливым и напряженным вниманием, люди притягивают его к себе, а он скользит, спускается к ним. Он встал, ноги его дрожали, а руками он тыкал судорожно в воздух, точно что-то отталкивая, стоял, топая ногой, и кричал:
— И убивают верных рабов земного нашего…
— Сейчас ему — крышка! — сказал промасленный человек и, кашляя, встал на ноги.
На крыльцо вскочил околоточный и, махая перчаткой на Диомидова, как бы отгоняя его, точно муху, что-то сказал.
— Да — разве я о политике! — звонко и горестно вскрикнул Диомидов. — Это не политика, а — ложь! То есть — поймите! — правда это, правда!
— Прошу прекратить! Прошу расходиться, — вкусно выговаривал полицейский, размахивая перчаткой.
Люди уже вставали с земли, толкая друг друга, встряхиваясь, двор наполнился шорохом, глухою воркотней. Варвара, Кумов и еще какие-то трое прилично одетых людей окружили полицейского, он говорил властно и солидно:
— Не могу-с. Не разрешаю…
— Объясните ему, — кричал Диомидов.
— Это — безразлично: он будет нападать, другие — защищать — это не допускается! Что-с? Нет, я не глуп. Полемика? Знаю-с. Полемика — та же политика! Нет, уж извините! Если б не было политики — о чем же спорить? Прошу…
— Жаловаться буду, — кричал Диомидов, толкая ногою стул.
— Рассердился, — отметил остробородый человек. — А — хорошо говорил!
Толстая женщина встала, вытерла рот ладонью и сказала довольно громко:
— Бабники все хорошо говорят.
— Разве — бабник?
— А то — нет?
— Да — ты про кого говоришь? — спросил человек в разорванном пиджаке. — Про околоточного?
— Все хороши! — сказала женщина, махнув рукой и отходя.
— Эх, ворона, — вздохнул человек в пиджаке. — Жить с вами — сил нету!
И, обращаясь к Самгину, сообщил вполголоса:
— Околоток этот молодой, а — хитер. Нарочно останавливает, чтобы знать, нет ли каких говорунов. Намедни один выискался, выскочил, а он его — цап! И — в участок. Вместе работают, наверное…
Толпа редела, таяла. Самгин подошел ко крыльцу; раскланиваясь с Варварой, околоточный говорил очень вежливо и мягко:
— Прошу верить: у меня нет никаких сомнений. Приказ! Семен Петрович — пламенный человек, возбуждает страсти… Бонсуар!8
И, отдав Варваре честь, он пошел за толпой, как пастух.
Диомидов, уже успокоенный, рассказывал Варваре с удовольствием, точно читая любимые стихи:
— Да, да, — совсем с ума сошел. Живет, из милости, на Земляном валу, у скорняка. Ночами ходит по улицам, бормочет: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» Самсоном изображает себя. Ну, прощайте, некогда мне, на беседу приглашен, прощайте!
Он круто повернулся и юркнул в узенькую дверь, сильно прихлопнув ее за собою.
— Ты — слышал? — спросила Варвара. — Дьякон — помнишь? — с ума сошел!
Самгин молча пожал плечами.
— Как тебе показался этот, а? Можно ли было ожидать! Впрочем — помнишь, как жаловался на него Дьякон?
Она говорила оживленно, а в глазах ее светилось что-то очень похожее на торжество.
Вспомнив эту сцену, он почувствовал себя отдохнувшим от Лютова и встал, чтоб погасить лампу. Синий огонек ее долго и упрямо мигал, прежде чем погаснуть; затем во тьме обнаружилось мутное пятно окна, оно было похоже на широкое, мохнатое полотенце. Удачно перешагнув через раздавленное яблоко, он лег, закрыл глаза и стал думать о Никоновой. Да, это — настоящий, нормальный человек, это — женщина для крепкой связи. В душе у нее, как в палисаднике, цветов немного, но все взращены любовно. Очень странно, что она не любит никаких украшений. Вспомнилось, как бережно укладывает она груди в лиф.
«Вероятно, бережет для ребенка».
Варвара — чужой человек. Она живет своей, должно быть. очень легкой жизнью. Равномерно благодушно высмеивает идеалистов, материалистов. У нее выпрямился рот и окрепли губы, но слишком ясно, что ей уже за тридцать. Она стала много и вкусно кушать. Недавно дешево купила на аукционе партию книжной бумаги и хорошо продала ее.
«Очень ловкая. Мы разойдемся, наверное, без драмы», — подумал Самгин, засыпая.
В день объявления войны Японии Самгин был в Петербурге, сидел в ресторане на Невском, удивленно и чуть-чуть злорадно воскрешая в памяти встречу с Лидией. Час тому назад он столкнулся с нею лицом к лицу, она выскочила из двери аптеки прямо на него.
— Боже мой — Клим!
Только по голосу он узнал, что эта высокая, скромно одетая женщина, с лицом под вуалью, в какой-то оригинальной, но не модной шапочке с белым пером — Лидия.
— Боже мой, — повторяла она с радостью и как будто с испугом. В руках ее и на груди, на пуговицах шубки — пакеты, освобождая руку, она уронила один из них; Самгин наклонился; его толкнули, а он толкнул ее, оба рассмеялись, должно быть, весьма глупое
— Вот… странно! Война, и вдруг — ты! Ой, как ты постарел!
Но, когда она приподняла вуаль, он увидал, что у нее лицо женщины лет под сорок; только темные глаза стали светлее, но взгляд их незнаком и непонятен. Он предложил ей зайти в ресторан.
— Не могу, ждет муж. Да, я замужем, пятый месяц, — не знал? Впрочем, я еще не писала отцу»
Уговорились встретиться у нее, тогда она торопливо наняла извозчика и уехала, крикнув:
— Не забудь адрес!
«Замужем?» — недоверчиво размышлял Самгин, пытаясь представить себе ее мужа. Это не удавалось. Ресторан был полон неестественно возбужденными людями; размахивая газетами, они пили, чокались, оглушительно кричали; синещекий, дородный человек, которому только толстые усы мешали быть похожим на актера, стоя с бокалом шампанского в руке, выпевал сиплым баритоном, сильно подчеркивая «а»:
— Га-аспада! Наканец… Мы знаем, наканец… Засовывая палец за воротник рубахи, он крутил шеей, освобождая кадык, дергал галстук с крупной в нем жемчужиной, выставлял вперед то одну, то другую ногу, — он хотел говорить и хотел, чтоб его слушали. Но и все тоже хотели говорить, особенно коренастый старичок, иокусно зачесавший от правого уха к левому через голый череп несколько десятков волос.
— Это нес-лыхан-ное ве-ро-лом-ство; — кричал он и морщил красное лицо, точно собираясь чихнуть.
— Тихон Васильевич — поздравляю! Вы — пророк!
— Ага-а! То-то, батенька…
Справа от Самгина группа людей, странно похожих друг на друга, окружила стол, и один из них, дирижируя рукой с портсигаром, зажатым в ней, громко и как молитву говорил: