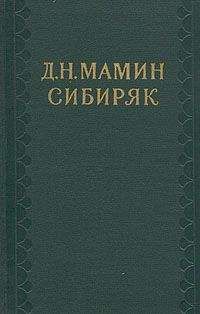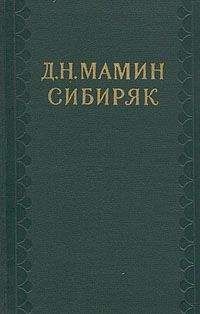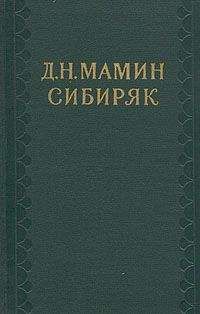Дора Штурман - Городу и миру
Итак, одной только воли выжить недостаточно для сохранения себя как нравственной личности. Но в мрачнейших безднах земного бытия узников может не спасти физически даже и сочетание воли с духовностью. Я благодарна Солженицыну за то, что он объединяет с верующими в противостоянии злу и тех, кто не осознает (несомненного для Солженицына) божественного источника своего "внутреннего духовного отвращения к подлости, к приспособлению" отвращения более сильного, чем инстинкт самосохранения. Такими людьми совесть возведена в абсолют, причем им неизмеримо труднее оставаться верными этому абсолюту, чем людям, сознающим свою религиозность: у нерелигиозных или агностических мучеников совести нет утешения, даруемого верой в потустороннюю жизнь. И тем не менее иные из них остаются верны голосу совести до костра включительно, на что не всегда хватает воли у верующих. Заметим, что и в толковании самых сокровенных вопросов смысла жизни, смысла истории Солженицын, вопреки искажающим его облик памфлетам, отнюдь не безапелляционен. Слова: "наверное", "вероятно", "кажется", "может быть" - сменяют друг друга в следующем его монологе:
"Вы знаете, я вообще пришел к убеждению, что мы, каждый человек, плохо понимаем свою жизненную задачу. Мы построим план, вот буду делать так-то. Но потом вдруг поворачивает нас судьба, верующие люди говорят - Бог, нас поворачивает совсем не так. Происходит с нами несчастье, провал. А потом проходит время, и мы понимаем, что за нас был сделан высший и верный выбор, что мы по своему неразумию не туда шли, то есть имея в виду свою цель, мы шли в другую сторону, не так. А нас поправляет судьба, Бог, - поправляет и направляет нас туда, куда надо. Это поразительно, я много раз в своей жизни наблюдал. Я сам бы не мог так жизнь построить, как за меня она построена, не моими руками. Наверное, и с человеческой историей так, не только с личностями отдельными. Вероятно, с целыми народами и со всем человечеством. Вот кажется, что человечество идет куда-то в пропасть, творится безумие, а может быть в этом есть высший замысел, который мы с Вами не поймем. Следующее поколение, может быть, поймет" (II, стр. 283-284).
Чуткий собеседник улавливает тревожащее противоречие в словах писателя, и противоречие не второстепенное, а центральную антиномию великих религий:
"Тут получается какое-то противоречие. Вы говорите, что Запад на коленях перед коммунизмом. Дух Мюнхена торжествует. Значит, мрачное будущее у человечества. А с другой стороны - высшая воля поправит?" (II, стр. 284).
И Солженицын отвечает так, что снова практически снимается противоречие между верующим, которому "нельзя ни предвидеть" "божественный смысл в истории, божественный взгляд", "ни все на него оставить, самим сложа руки, без действия", и агностиком, подчиненным абсолюту совести:
"Мы должны делать все, что в наших силах и в нашем зрении. Если я вижу опасность, я должен о ней предупредить. Если меня, мой голос, слышат, я не имею права молчать. Человеку не дано видеть все и даже видеть слишком далеко. Но мы не имеем права и так сказать: ах, Бог все исправит, будем сидеть спокойно. Нет. Мы должны биться. В этом смысл жизни на земле. Мы бьемся, как можем, как понимаем, сколько хватает нашего зрения, мужества, ума. Конечно есть божественный смысл в истории, божественный взгляд. Но нам нельзя ни предвидеть, ни все на него оставить, самим сложа руки, без действия. Мы не имеем права" (II, стр. 284).
Что можно против этого возразить?
Но вот разговор переходит конкретно к Японии, и в отношении Солженицына к "Дальнему Западу" возникают все те моменты, которые мы наблюдали в его отношении к Западу "ближнему". Приведу эту часть беседы. Начинает Г. Утимура:
"Наше молодое поколение считает свободу, как Вы говорите, коллекцией прав. И наслаждений. Это после японского бума, то есть после невиданного процветания японской экономики... Наше поколение совершенно стало на путь Запада. Не пренебрегать своими национальными ресурсами - об этом теперь мало кто думает.
- Это жаль, я думал, в Японии еще сохраняется яркая национальная индивидуальность. А если она теряется, это большая угроза для Японии: современный жадный поток наслаждений - это прах. Это тупик. Ну, бросаются в секс. Через десять лет надоедает и секс. Каждые пять лет надо менять танцы и моды. Но невозможно без конца заглатывать. Только есть, только брать. Надо самим себя ограничить, а за права эти надо платить ответственностью и быть готовым к защите свободы. Над ней нависла большая опасность. Свободных стран на Земле гораздо меньше, чем несвободных. Тирания занимает больше половины Земли сегодня. И многие страны, освободившиеся из колоний, попали во власть тирании, многие страны Африки и Азии.
- Видите ли, японцы считают, что гарантию безопасности Японии дает ООН. Как Вы понимаете?
- Серьезно верите, что ООН...?
- Да, считают серьезно.
- Это удивительно. По-моему, Организация Объединенных Наций уже показала свое полное бессилие в любом вопросе. Она только тогда сильна, когда угождает своему большинству, а большинство сейчас - молодые страны, которые только хотят получать. Они могут продиктовать ООН только эгоистические решения. Я думаю, это плохая надежда, плохая защита.
- Но тем не менее, японцы стоят на этой позиции, то есть свобода коллекция прав, и не только для молодого поколения, послевоенные поколения все такие. И после войны японцы решили не вооружаться. А теперь, хотя и есть у нас свои военные силы, но официально считается, что это не армия, хотя это все же армия; но японцы считают, что это безнадежная армия.
- Очень я понимаю тот духовный путь, которым Япония пришла к решению не иметь оружия, не иметь армии. Это благородное движение. Япония, конечно, понимала долю своей ответственности за участие во Второй мировой войне. И решила не повторять ошибки. Этот путь вызвал симпатию во всем мире. Но вот тридцать лет прошло, вы себя ограничивали, а ваши соседи себя не ограничили. А свободу надо защищать. И посудите, что же у вас есть для защиты вашей свободы в роковую минуту? Будете подавать в ООН? Но там легко проголосуют против вас. Вас будут душить, а ООН при этом будет голосовать против вас. Удивительно, что такая вера в ООН могла в Японии создаться. Вообще, сознают ли ваши соотечественники, насколько опасное в мире положение? Очевидно, нет, раз молодежь ваша веселится" (II, стр. 289-290).
Здесь, казалось бы, как и во многих других выступлениях Солженицына, присутствует ясность, которая удовлетворила бы самого последовательного сторонника силового сопротивления тоталитарной экспансии: "...вы себя ограничивали, а ваши соседи себя не ограничили. А свободу надо защищать". Куда яснее? Но вот, через четыре дня, в выступлении по французскому телевидению, снова несколько затмевается эта ясность. Ведущий передачи спрашивает:
"Возвращаясь к поставленному Вам вопросу о Ваших выступлениях в США. Вы заявили, что только твердость позволит устоять против наступления советского тоталитаризма, что только твердость оправдает себя?" (II, стр. 311).
И Солженицын отвечает, то отводя от себя обвинение в пропаганде силового сопротивления советскому тоталитаризму (сводя проблему только к духовной твердости), то всем смыслом произносимого, прямым и косвенным, всеми возникающими в его монологе параллелями и ассоциациями постулируя необходимость физического сопротивления агрессии:
"Я хотел бы напомнить, что выступаю не как политический деятель и, когда я говорю о твердости, я имею в виду не твердость ваших вооруженных сил и не твердость ваших дипломатических нот, я говорю о твердости вашего духа. Этот процесс начался очень давно, он начался не с этой разрядки, он начался не с Мюнхена, он начался по крайней мере с 1918 года, а если глубоко подумать, он идет уже столетия. Благоденствующие люди не хотят слышать о чужих страданиях. Вот вы кончили Первую мировую войну. Что творилось у нас?! Ведь наша страна была ваш союзник, как же вы бросили нас в рабство? А вам хотелось скорее отдохнуть от этой ужасной Первой мировой войны. Что произошло после Второй войны? Ну, раньше того Мюнхен, простите, да, Мюнхен! То же самое, хотелось как-нибудь отдалить, может быть уступать и уступать, и много уступали Гитлеру, но это было все же географически слишком близко к вам, пришлось воевать. Запад занял принципиальную позицию и стойко выдержал это испытание. А потом опять хотелось отдохнуть. И снова - нас покидали в рабстве, нас сдавали насильно, ведь западными прикладами били стариков и детей, против их воли отдавая на уничтожение, на Архипелаг ГУЛАГ. И так сдали почти полтора миллиона. О рабстве нашем знали - ну, пусть не знала ваша публика, не знали широкие массы, - но ваши просвещенные люди, но ваши коммунисты, которые ездили к нам, прекрасно знали о нашем рабстве. Все молчали, и общество было довольно. Как хорошо не знать о чужих страданиях! Сколько-то пожить еще. Когда я говорю о твердости, я говорю о твердости духа. Мы, инакомыслящие, разве у нас есть танки или самолеты, или мы можем послать дипломатические ноты? Наше противостояние основано на твердости духа, ничего, кроме вот этой груди - вот она! Хоть бы было это у вас, была бы твердость воли. Если вы обладаете свободой, то когда-то эту свободу придется отстаивать. Подумайте, как ее теряют. Каждый год несколько стран теряют, теряют, теряют, а вы живете в каком-то забытьи" (II, стр. 311-312).