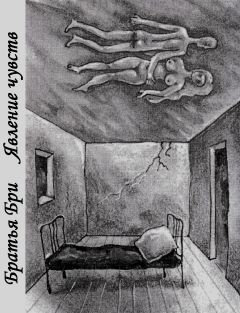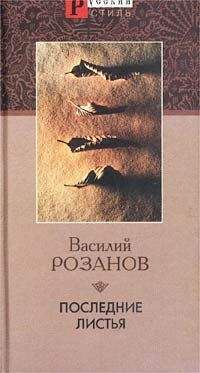Иван Бунин - Том 3. Произведения 1907–1914
В дверь осторожно постучали: лакей с карточкой завтрака заглянул в купе.
— Прекрасно, оставьте мне место, — сказал Хрущов с той приятной легкостью, с которой, верно, говорит на своем языке иностранец, переехавший границу своей страны после России. Сейчас будет сидеть за столиком с букетом цветов, за бутылкой вина, и что впереди — серо-сиреневые горы, белый город в кипарисах, нарядные люди, зеленые морские волны, длинными складками идущие на гравий, их летний, атласный шум, тяжесть, блеск и кипень… Лакей деликатно притворил дверь. Хрущов лег на диван, — и мысли его опять возвратились к молодости, к началу его бездомной жизни, к этому большому мертвому городу, вечно заносимому пылью, подобно оазисам среднеазиатских пустынь, подобно египетским каналам, засыпаемым песками…
«Пыль, пыль, пыль! — думал он с какой-то едкой и сладкой тоской, глядя на тончайшую сухую мглу, наполнявшую его жаркое купе. — Азия, Азия!»
Вагон мотало…
Капри. 23 февраля. 1913
Лирник Родион*
Рассказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.
Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховеями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.
На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтораста хохлушек, плывших куда-то па весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; дном они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.
Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.
По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот она переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.
Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на пояснице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.
Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами… И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выспавшиеся за день.
Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристрявший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.
Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псальмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью матерь, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.
В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — «ой ти, сыну, мiй сын, ты, дытына моя!» — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса заныл первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху.
И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.
Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.
— Ой, зашумiли луги ще й быстрii piкi, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.
И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:
— Померла матинка, зосталися дiти…
Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:
— Отец жону знайде, буде в пapi жити…