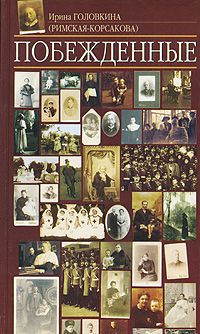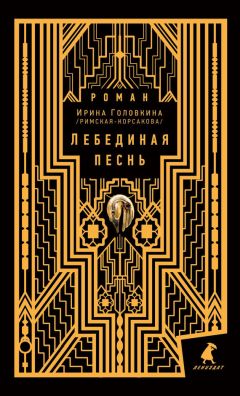Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Побеждённые
Марина читала это письмо вслух и сама все время вытирала слезы. Мика, слушавший из угла, в который забился, видимо, тоже был потрясен. Едва они успели закончить, как в комнату быстро вошел Олег, явившийся прямо из порта.
Узнав о трагедии, он задумался — нельзя, чтобы Наталье Павловне и Асе стало известно о гибели Сергея Петровича, покуда у Аси не родится ребенок и она не оправится от родов. Все согласились, что это разумно.
Между ними составился уговор написать от лица Сергея Петровича два или три письма, в которых он сообщит, будто бы повредил себе руку и диктует это письмо соседке; так письма, естественно, будут короче и более общего характера. Олег и Нина составят вместе несколько таких писем; дату можно всегда поставить недели на две назад и опустить письмо за городом, доверчивые души не станут разглядывать почтовых штемпелей; сложнее будет, если они опять примутся собирать посылку, но и тут выход из положения найти нетрудно:
— Отправлять посылку придется, конечно, мне, — сказал Олег. — Не Асе же тащиться за город с тяжелым ящиком. Я принесу ее вам, Нина, и просижу у вас день — вот и все.
Тут же составили первое письмо, которое Марина вызвалась переписать, чтобы почерк не показался знакомым. Она обещала точно так же переписывать и последующие письма.
Через несколько дней Нина собралась с духом и пошла к Наталье Павловне. Когда Наталья Павловна стала читать вслух полученное письмо, атмосфера слишком накалилась.
— Досадно, что он не сообщил подробностей: чем повредил себе руку и в каком именно месте, — говорила Наталья Павловна, — я боюсь, чтобы это не помешало ему играть на скрипке, особенно если повреждено сухожилие. Как вы думаете, Ниночка?
Нина крепилась из последних сил и все-таки расплакалась.
— Это нервы! Я очень истосковалась… Не дождусь, когда поеду… — шептала она…
— Кажется, не выдержу! — сказала Нина Олегу, когда он вышел ее проводить. — Хорошо, что через две недели Капелла уезжает в турне на Поволжье. Вчера это выяснилось. К тому времени, когда мы вернемся, Ася уже будет матерью, и вы должны обещать мне, что сообщите обеим все без меня…
И потом, прощаясь с ним около своего подъезда, она сказала:
— Мы — друзья, не правда ли? Мы с вами знаем грехи друг друга и прощаем их. Не все так чисты, как ваша Ася. Мне и вам так досталось в жизни, что… Бог, если Он есть, смилостивится над нами и не осудит нас. Мы — друзья?
Он с прежней манерой склонился к ее руке:
— Да, Нина, и всегда ими останемся.
Глава четырнадцатая
— Не поеду, — наотрез отказывалась Леля, когда мать заводила речь о том, что хорошо бы навестить маму Валентина Платоновича, которая жила на распродажу вещей и из последних средств посылала сыну посылки в Караганду. — Вовсе ни к чему! Только себя в ложное положение belle fille[68] поставлю! Помочь мы ничем не можем, а общества старух с меня и так довольно. Тебе доставляет удовольствие плакать с ней вместе, а мне никакого!
На Пасху Леля все же уступила желанию матери и отправилась к Фроловским. Мама Валентина Платоновича — Татьяна Ивановна — обрадовалась гостье, сразу повела ее в свою комнату и стала показывать этот маленький домашний музей — скромный уголок, отделенный ширмой. Нянюшка Агаша, вынянчившая всех детей Фроловских, и две ее внучки жили в этой же комнате. За ширмой стояла кровать и маленький изящный столик, заставленный миниатюрными фотографиями, вазочками и безделушками, которые Татьяна Ивановна надеялась еще спасти от покушений со стороны девчонок. Бедные безделушки, осколки прекрасного прошлого, они напоминали прежний будуар с его изысканным убранством и хранили память об изяществе пальчиков юной Танечки Фроловской — белый слон с поднятым хоботом, венецианская вазочка, маленький Будда с загадочной улыбкой; фарфоровое яичко с букетиком фиалок помнило христосование и пасхальные подарки, а гараховский флакон до сих пор не расставался с запахом дорогих духов — запахом незабываемого времени… С фотографий смотрели дорогие лица, лица погибших в боях с германцами, в боях с большевиками и в советских чрезвычайках.
— Вот теперь моя «жилплощадь». Я собрала сюда всех моих, чтобы не чувствовать себя одинокой. Вот тут мои мальчики: это старший — Коля — убит под Кенигсбергом, а это — Андрей — его ты, наверно, помнишь, — ему случалось бывать у Зинаиды Глебовны. Он погиб от тифа в восемнадцатом году, в армии, мой бедный мальчик. А вот и Валентин, мой младшенький. Вот здесь он снят вместе с тобой — помнишь, ты изображала однажды Красную Шапочку на детском вечере, а Валентин был в костюме Волка; вы танцевали вместе, и ты еще не дотягивалась ручкой до его плеча. А вот и вся наша семья на веранде в имении мужа; веранда была вся увита плющом и хмелем.
К удивлению Лели, Татьяна Ивановна говорила все это совершенно спокойно, как будто всматриваясь в далекую картину, и только когда она стала рассказывать о письмах из Караганды, слезы неудержимо полились из усталых глаз.
— Я знаю, что он мне не пишет правды; я читаю между строк! Он замечательный сын, Леличка, всегда боится меня встревожить и огорчить — и мужем бы, наверное, был самым преданным и нежным, только прикидывается циником. Я ведь уже надеялась, что вы мне станете дочкой и оба будете у меня под крылышком тут, в соседней комнате… Как бы я вас любила!
Она обняла и прижала к себе девушку.
— Ивановна! — перебил их развязный звонкий голос. — Ты куда свои кораллы засунула? Я на рояль положила, одеть хотела, а ты уж и спроворила!
Леля быстро выпрямилась, пораженная: такого тона она все-таки не могла ожидать.
— Это что еще такое? Наглость какая! — воскликнула она.
— Тише, тише, милая! Не надо, — испуганно зашептала Фроловская. — Потом поговорим. Войди сюда, Дарочка. Видишь, у меня гостья. Ожерелье я прибрала, потому что на рояле ему — согласись — не место. Возьми, если хочешь надеть.
Вошедшая девушка, несколько все же сконфузившись, покосилась на Лелю, но тотчас скривила губы и взяла ожерелье с таким видом, будто говорила: «Давай уж!». Вышла.
— Как вы можете терпеть такой тон? — громко возмутилась Леля, чтобы та слышала.
— Что делать, дорогая! — зашептала Татьяна Ивановна. — Ведь я не имею права их выселить, если у них нет жилплощади, а добром они не уедут. Конечно, они меня стеснили, мне даже пасьянс теперь негде разложить, приходится класть карты на подушку. Но я мирюсь — одной тоже было бы трудно: лифт стоит, а подняться в третий этаж я не в силах из-за моего миокардита. Они же покупают все, что я попрошу. Вот и сегодня Дарочка принесла и молоко, и булку. Нет, Тоня и Дарочка девушки неплохие, а только невоспитанные. Агаша ради них с утра до ночи гнет спину: в домработницы к моему знакомому академику поступила, чтобы заработать девочкам на кино и тряпки, а они на нее кричат хуже, чем на меня; стыдиться ее начали — если при Агаше придут их подруги или кавалеры, они прячут ее ко мне за ширму. Вот это совсем ни в какие ворота не лезет!
Она приподнялась и вынула бархатный футляр.
— Вот, дорогая, фамильный жемчуг; еще мой, девичий. Он был у нас приготовлен тебе как свадебный подарок. Возьми его. Кто знает, может быть, Валентин еще вернется, не возражай мне, девочка моя. Я не требую у тебя обещаний — я понимаю, как мало надежды… Но я уже плоха и не хочу, чтобы этот жемчуг попал в руки этих девушек. Он и уцелел-то только потому, что я повторяю и в кухне, и в коридоре, будто это простые бусы, не стоят и пяти рублей. Пусть он украсит твою шейку.
Но Леля замотала головой.
— Я не вправе принять такую вещь… Вы ее продать можете… Вам так теперь трудно!
— Нет, милая! Я этого не сделаю. Жемчуг этот заветный. Надень, я застегну на тебе замочек. Если бы ты только знала, как я грущу, но ты этого не поймешь в свои двадцать лет.
Как только Татьяна Ивановна усадила Лелю пить чай, с трудом разместив китайские чашки и чайничек на крошечном отрезке стола, послышался звонок и в комнате появилась хорошо знакомая фигура Шуры Краснокутского с его круглыми, добрыми, черными глазами. Следом за ним, не дожидаясь приглашения, тотчас юркнула Дарочка. Быстрый завистливый взгляд, брошенный ею в сторону Лели, говорил сам за себя — ишь ты, куколка дворянская! Возможно, что зоркие глаза уже заметили жемчуг на шее Лели.
При появлении Шуры Дарочка мобилизовала свои чары, и наилучшей из них, по-видимому, считала ежеминутный звонкий хохот.
Подымаясь, чтобы уходить, Леля самым невинным голоском спросила:
— Как здоровье вашей бабушки, Дарочка? К кому она нанялась? Помните, Шура, нянюшку Агашу? Такая добрая и милая старушка, вторая Арина Родионовна, — и покосилась на Дарочку, наслаждаясь плодами своего ехидства. С этой же тайной мыслью она позволила Татьяне Ивановне обнять себя и, прощаясь, сама повисла на ее шее. Но как только она и Шура вышли на лестницу, улыбка слетела с ее лица.