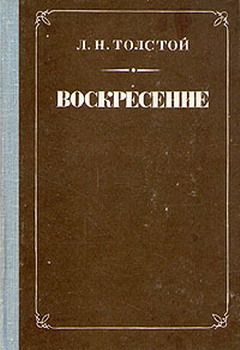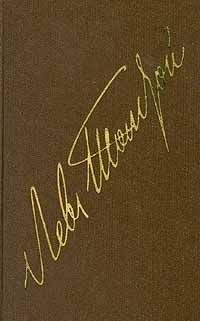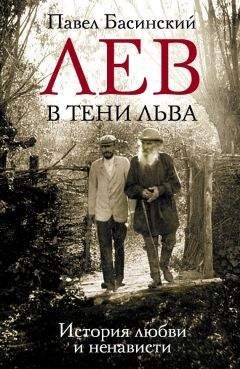Лев Толстой - Воскресение
Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом:
– Приказали просить.
Передняя, лакей, вестовой, лестница, зал с глянцевито натертым паркетом – все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественнее. Нехлюдова ввели в кабинет.
Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу и оголенном черепе и мешками под глазами, сангвинический человек, сидел в татарском шелковом халате и с папиросой в руках пил чай из стакана в серебряном подстаканнике.
– Здравствуйте, батюшка! Извините, что в халате принимаю: все лучше, чем совсем не принять, – сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками сморщенную сзади шею. – Я не совсем здоров и не выхожу. Как это вас занесло в наше тридевятое царство?
– Я сопутствовал партии арестантов, в которой есть лицо мне близкое, – сказал Нехлюдов, – и вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве.
Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких, заплывших, блестящих глаз с Нехлюдова, серьезно слушал. Он перебил его только затем, чтобы спросить, не хочет ли он курить.
Генерал принадлежал к типу ученых военных, полагающих возможным примирение либеральности и гуманности с своею профессиею. Но, как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения и, чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, все больше и больше отдавался столь распространенной среди военных привычке пить много вина и так предался этой привычке, что после тридцатипятилетней военной службы сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы чувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить, и каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное, первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи. Только утром, именно в то время, когда Нехлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять: «Пьян да умен – два угодья в нем». Высшие власти знали, что он пьяница, но он был все-таки более образован, чем другие, – хотя и остановился в своем образовании на том месте, где его застало пьянство, – был смел, ловок, представителен, умел и в пьяном виде держать себя с тактом, и потому его назначили и держали на том видном и ответственном месте, которое он занимал.
Нехлюдов рассказал ему, что лицо, интересующее его, – женщина, что она невинно осуждена, что подано о ней на высочайшее имя.
– Так-с. Ну-с? – сказал генерал.
– Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца и сюда…
Не спуская глаз с Нехлюдова, генерал протянул с короткими пальцами руку к столу, позвонил и продолжал молча слушать, пыхтя папироской и особенно громко откашливаясь.
– Так я просил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, как получится ответ на поданное прошение.
Вошел лакей, денщик, одетый по-военному.
– Спроси, встала ли Анна Васильевна, – сказал генерал денщику, – и подай еще чаю. Еще что-с? – обратился генерал к Нехлюдову.
– Другая моя просьба, – продолжал Нехлюдов, – касается политического арестанта, идущего в этой же партии.
– Вот как! – сказал генерал, значительно кивая головой.
– Он тяжело болен – умирающий человек. И его, вероятно, оставят здесь в больнице. Так одна из политических женщин желала бы остаться при нем.
– Она чужая ему?
– Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нем.
Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно желая смутить своего собеседника взглядом, и все курил.
Когда Нехлюдов кончил, он достал со стола книгу и, быстро мусоля пальцы, которыми перевертывал листы, нашел статью о браке и прочел.
– К чему она приговорена? – спросил он, подняв глаза от книги.
– Она – к каторге.
– Ну, так положение приговоренного вследствие его брака не может улучшиться.
– Да ведь…
– Позвольте. Если бы на ней женился свободный, она все точно так же должна отбыть свое наказание. Тут вопрос: кто несет более тяжелое наказание – он или она?
– Они оба приговорены к каторжным работам.
– Ну, так и квит, – смеясь, сказал генерал. – Что ему, то и ей. Его по болезни оставить можно, – продолжал он, – и, разумеется, будет сделано все, что возможно, для облегчения его участи; но она, хотя бы вышла за него, не может остаться здесь…
– Генеральша кушают кофе, – доложил лакей.
Генерал кивнул головой и продолжал:
– Впрочем, я еще подумаю. Как их фамилии? Запишите, вот сюда.
Нехлюдов записал.
– И этого не могу, – сказал генерал Нехлюдову на просьбу его видеться с больным. – Я, конечно, вас не подозреваю, – сказал он, – но вы интересуетесь им и другими и у вас есть деньги. А здесь у нас все продажное. Мне говорят: искоренить взяточничество. Да как же искоренить, когда все взяточники? И чем ниже чином, тем больше. Ну, где его усмотреть за пять тысяч верст? Он там царек, такой же, как я здесь, – и он засмеялся. – Вы ведь, верно, виделись с политическими, давали деньги, и вас пускали? – сказал он, улыбаясь. – Так ведь?
– Да, это правда.
– Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического. И вам жалко его. А смотритель или конвойный возьмет, потому что у него два двугривенных жалованья и семья, и ему нельзя не взять. И на его и на вашем месте я поступил бы так же, как и вы и он. Но на своем месте я не позволю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я – человек и могу увлечься жалостью. А я исполнителен, мне доверили под известные условия, и я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен. Ну-с, теперь вы расскажите мне, что у вас в метрополии делается?
И генерал стал расспрашивать и рассказывать, очевидно желая в одно и то же время и узнать новости, и показать все свое значение и свою гуманность.
XXIII
– Ну-с, так вот что: вы у кого? у Дюка? Ну, и там скверно. А вы приходите обедать, – сказал генерал, отпуская Нехлюдова, – в пять часов. Вы по-английски говорите?
– Да, говорю.
– Ну, вот и прекрасно. Сюда, видите ли, приехал англичанин, путешественник. Он изучает ссылку и тюрьмы в Сибири. Так вот он у нас будет обедать, и вы приезжайте. Обедаем в пять, и жена требует исполнительности. Я вам тогда и ответ дам и о том, как поступить с этой женщиной, а также о больном. Может быть, и можно будет оставить кого-нибудь при нем.
Откланявшись генералу, Нехлюдов, чувствуя себя в особенно возбужденно-деятельном духе, поехал на почту.
Почтамт была низкая со сводами комната; за конторкой сидели чиновники и выдавали толпящемуся народу. Один чиновник, согнув набок голову, не переставая стукал печатью по ловко пододвигаемым конвертам. Нехлюдова не заставили долго дожидаться, и, узнав его фамилию, ему тотчас же выдали его довольно большую корреспонденцию. Тут были и деньги, и несколько писем и книг, и последний номер «Отечественных записок». Получив свои письма, Нехлюдов отошел к деревянной лавке, на которой сидел, дожидаясь чего-то, солдат с книжкой, и сел с ним рядом, пересматривая полученные письма. В числе их было одно заказное – прекрасный конверт с отчетливой печатью яркого красного сургуча. Он распечатал конверт и, увидав письмо Селенина вместе с какой-то официальной бумагой, почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо и сердце сжалось. Это было решение по делу Катюши. Какое было это решение? Неужели отказ? Нехлюдов поспешно пробежал написанное мелким, трудно разбираемым твердым изломанным почерком и радостно вздохнул. Решение было благоприятное.
«Любезный друг! – писал Селенин. – Последний разговор наш оставил во мне сильное впечатление. Ты был прав относительно Масловой. Я просмотрел внимательно дело и увидал, что совершена была относительно ее возмутительная несправедливость. Поправить можно было только в комиссии прошений, куда ты и подал. Мне удалось посодействовать разрешению дела там, и вот посылаю тебе копию с помилования по адресу, который дала мне графиня Екатерина Ивановна. Подлинная бумага отправлена в то место, где она содержалась во время суда, и, вероятно, будет тотчас же переслана в Сибирское главное управление. Спешу тебе сообщить это приятное известие. Дружески жму руку. Твой Селенин».
Содержание самой бумаги было следующее: «Канцелярия его императорского величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых. Такое-то дело, делопроизводство. Такой-то стол, такое-то число, год. По приказанию главноуправляющего канцеляриею его императорского величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что его императорское величество, по всеподданнейшему докладу ему, снисходя к просьбе Масловой, высочайше повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных Сибири».